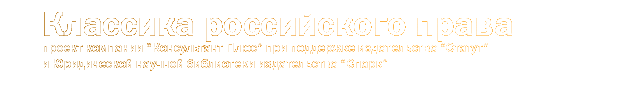Иоффе О.С. Избранные труды по гражданскому праву: Из истории цивилистической мысли. Гражданское правоотношение. Критика теории "хозяйственного права"
Но и этот вывод не мог рассчитывать на прямолинейное и безоговорочное применение. В определенных условиях, например, при существенном заблуждении, он также не исключал признания договора недействительным ввиду того, что волеизъявление не находит достаточного обоснования во внутренней воле. Тем самым появились поводы для критики теории волеизъявления при многократных попытках синтезировать ее с теорией воли. В России такую попытку предпринял Гримм, выступивший вообще против размежевания волеизъявления и изъявляемой воли: действие как единый волевой акт налицо лишь при условии, что имеются сознание, воля, а также внешние, распознаваемые для других, формы их выражения[133]. Подобные построения не выходили, однако, за рамки чистой теории, и сами их приверженцы отнюдь не предлагали опорочивать сделку всякий раз, когда она страдает дефектами либо самой воли, либо волеизъявления. Практически решающая роль отводилась волеизъявлению, и лишь в строго ограниченных пределах допускалась возможность отказать в юридической силе договору, основанному на искаженном содержании внутренней воли.
Если же договор как волевой акт не подлежит оспариванию, в действие вступает правило об обязательности его исполнения. Но это правило претерпевает впоследствии деформацию двоякого рода.
Во-первых, ссылаясь на возможную неполноту договора, буржуазная цивилистика с необычайной настойчивостью, особенно усилившейся в последней четверти XIX в., требовала использования различных метаюридических критериев для оценки надлежащего исполнения договорного обязательства. Прямым ответом на ее требования явились закрепленные в германском гражданском уложении правила о доброй совести (Treu und Glauben) и обычаях оборота (Verkehssitte), которые позволяют уже не столько самим контрагентам, сколько суду по его собственному усмотрению определять, исполнен ли договор надлежащим образом.
Во-вторых, под влиянием экономических потрясений, которые в то же самое время начинает переживать буржуазная хозяйственная система, безусловная обязательность заключенного договора подвергается все более ограничительному доктринальному толкованию. Такое толкование основывается на утверждении, что всякий договор заключается с надеждой на неизменность обстоятельств, сопутствовавших его заключению, ко времени, когда он должен быть исполнен (clausula rebus sic stqudibus). Если же обстоятельства изменились (произошло обесценение валюты, затоваривание оборота и т. п.), любой из контрагентов вправе от договора отказаться.
Понятно, что оба эти новшества существенно поколебали пресловутую нерасторжимость договора, долгое время считавшуюся краеугольным камнем законодательства капиталистических стран. Но <принцип нерасторжимости> с самого начала обнаруживал очевидную непоследовательность, поскольку он отнюдь не исключал возможности уклониться от договора ценой возмещения убытков второму его участнику. Возмещение убытков в полном объеме в принципе рассматривалось как экономически и юридически равнозначное исполнению самого договора. И лишь в вопросе о том, компенсация каких убытков обеспечивает полное их возмещение, обнаруживались разноречивые взгляды. Французское законодательство, по общему правилу, не распространявшемуся лишь на умышленную вину, допускало возмещение только прямых, но не косвенных убытков. В отличие от этого, немецкое законодательство требовало, чтобы за счет причинителя было полностью восстановлено положение, в каком потерпевший находился до правонарушения, не делая скидок на различие между прямыми и косвенными убытками и даже вовсе не упоминая о таком различии. Понятно, что к выявлению границ между прямыми и косвенными убытками не обращалась и немецкая цивилистическая доктрина. В то же время этой проблеме было уделено колоссальное внимание во французской цивилистике, положившей начало таким концепциям, как отождествление косвенных убытков с теми, которые не мог предвидеть нарушитель, или привязывание их к действию косвенных причин, в отличие от прямых убытков, вызываемых причинами непосредственными.
Но если по указанным обстоятельствам проблема деления убытков на прямые и косвенные замыкалась почти исключительно рамками французской юриспруденции, то более широкая проблема, обнимающая понятие причинной связи в целом, привлекала к себе разностороннее внимание, не ограничивающееся ни отдельной страной, ни какой-либо обособленной ветвью юридических знаний. Нужно при этом отметить, что теория conditio sine qua non, доминировавшая в уголовном праве, не получила распространения в гражданско-правовой сфере. Здесь почти безраздельно утвердилась адекватная теория, признающая причиной лишь такое поведение, которое не только в данной конкретной ситуации, но и во всех абстрактно мыслимых случаях способно вызывать однопорядковые последствия. Выдвинутая первоначально практикой судебных органов Германии адекватная теория очень скоро становится наиболее популярной, поддержанной цивилистами едва ли не всех стран континентальной Европы.
И это имеет свои объяснения. Дело в том, что бесконечную цепь причинности, выводимую на почве теории conditio sine qua non, криминалисты ограничивали с помощью критерия вины, вменяя в ответственность только такой результат, который охватывался или мог быть охвачен предвидением преступника. Для цивилистов использование этого критерия устранялось во всех случаях, в которых гражданская ответственность не ставится в зависимость от вины нарушителя. А поскольку адекватная теория применима независимо от вины, она и была встречена с распростертыми объятиями как обеспечивающая хотя бы какой-то выход из тупика, в котором цивилистическая доктрина и практика оказались вследствие распространения иных теорий причинной связи. Самая же направленность цивилистических воззрений относительно характера юридически значимой причинности свидетельствует о том, что они складывались под непосредственным воздействием общих начал гражданской ответственности, зафиксированных в буржуазном законе.
Почти на всем протяжении XIX в. законодательство и практика буржуазных стран придерживались начала или, по более распространенному выражению, принципа вины (Schuldprinzip). Договорный контрагент объявлялся ответственным за любую вину, включая и допущенную в процессе заключения договора (culpa in contrahendo). Вместе с тем, если иное не было предусмотрено в самом договоре, случай исключал гражданскую ответственность. А так как, по общему правилу, на случай ответственность не распространялась, цивилистическая доктрина не испытывала надобности в проведении границ между простым случаем (casus) и непреодолимой силой (vis major). Анализ условий договорной ответственности, опиравшийся на ранние буржуазные кодификации (например, на французский гражданский кодекс), проходил мимо понятия непреодолимой силы, которое если иногда и употреблялось, то без приурочения к нему иных правовых последствий, нежели вызываемые простым случаем.
К концу XIX в. в этой области начинают происходить весьма существенные изменения, знаменующие использование, наряду с принципом вины, также принципа причинения (Verursachungsprinzip). Он проникает в договорную сферу по каналам торгового законодательства и в деликтные обязательства через специальные законы о повышении ответственности за вред, причиненный эксплуатацией различных видов техники. Этот процесс нашел отражение и в поздних кодификациях буржуазного гражданского законодательства (например, в германском гражданском уложении). Но поскольку, даже выйдя за пределы вины, гражданская ответственность не распространялась на непреодолимую силу, возникла потребность в отграничении последней от простого случая. В результате появляются многочисленные теории непреодолимой силы, обычно подразделяемые на две группы - субъективные и объективные.
Субъективную теорию принято связывать с именем Гольдшмидта, трактовавшего непреодолимую силу как такое явление, которое наступает несмотря на повышенную или даже максимальную заботливость, проявленную обязанным лицом. Но при подобной трактовке непреодолимая сила ничем не отличается от простого случая, ибо все то, что не было, хотя могло быть предотвращено пусть благодаря самой высокой степени заботливости обязанного лица, относится к сфере виновного, а не случайного.
Объективную теорию принято связывать с именами Жоссерана и Экснера. При этом первый сводил непреодолимую силу к событиям, имеющим для деятельности обязанного лица <внешнее происхождение>, а второй указывал, кроме того, на чрезвычайный, экстраординарный характер таких событий. Ясно, что без этого добавления любые жизненные факты могли бы расцениваться как непреодолимая сила. Однако и вместе с таким добавлением необходимая ясность не достигается, так как если результат вызван внешним событием, то ответственность исключается не вследствие непреодолимой силы, а потому, что внешнее событие, но не обязанное лицо вызвало наступление отрицательных имущественных последствий.
Впрочем, для буржуазной цивилистики камнем преткновения явилась не только непреодолимая сила, но в первую очередь направленность самой гражданской ответственности, доведенной до ее пределов. Каково назначение такой ответственности? В чем смысл возложения обязанности возместить вред на того, кто причинил его без всякой вины со своей стороны?
Согласно мнению, наиболее отчетливо выраженному Менгером, цель такой ответственности состоит в том, чтобы путем возмещения причиненного вреда восстановить ситуацию, существовавшую до правонарушения. Но с этих позиций трудно было бы объяснить, почему принципу причинения не придается всеобщая значимость. Ведь и в тех случаях, когда ответственность без вины исключена, она тоже могла бы выполнить чисто восстановительную функцию!
Согласно иному взгляду, особенно настойчиво защищавшемуся Петражицким, решающая роль принадлежит не возместительной (восстановительной), а превентивной (предупредительной) функции. Если бы, говорит он, на первом плане стояло возмещение вреда, то с общественной точки зрения эта цель достигалась посредством двойного ущерба, причиняемого вначале потерпевшему, а затем самому причинителю. Но и такое объяснение нельзя признать удовлетворительным, так как остается неясным, в чем именно заключается превентивная функция безвиновной ответственности, да и возможны ли вообще какие-либо превентивные меры по отношению к невиновной, а следовательно, безупречной деятельности.
Уклониться от ответа на эти и многие другие вопросы буржуазная цивилистика не могла не только потому, что иначе ее концепции повисали бы в воздухе, но потому главным образом, что наступало время, когда принцип причинения начал захватывать все более широкие жизненные сферы, постепенно вытесняя из них принцип вины. Речь шла, следовательно, об оценке не единичных норм, а целой серии законодательных правил. Их появление в широких масштабах хронологически совпадает с другими коренными изменениями буржуазного гражданского права, затронувшими такие казалось бы краеугольные его начала, как неограниченность собственности, свобода договора и т. п. Но все эти изменения относятся уже к стадии империализма, открывшего новый этап как в истории самого капиталистического общества, так и в развитии порожденной им цивилистической доктрины.
Печатается по:
Труды Киргизского государственного университета.
Серия юридических наук. Вып. 8.
Фрунзе, 1972. С. 100 - 156.
Цивилистическая доктрина империализма
I. Общая характеристика
Учебное пособие, посвященное цивилистической доктрине империализма, завершает прослеживание основных периодов развития цивилистической мысли эксплуататорских обществ, начатое нашими предыдущими публикациями[1228]. Для восприятия этих публикаций как единого целого необходимо, однако, иметь в виду, что, подобно тому как империализм - не самостоятельная формация, а последняя стадия капитализма, так и порожденная им цивилистическая доктрина - не обособленная система взглядов, а специфическое формирование, знаменующее своеобразный этап в динамике самих буржуазных цивилистических воззрений. Обусловливающие своеобразие данного этапа исторические факторы получили достаточно четкое отражение в ленинской характеристике империализма как такого исторически переломного рубежа, когда <эпоха использования буржуазной законности сменяется эпохой величайших революционных битв, причем битвы эти по сути дела будут разрушением всей буржуазной законности, всего буржуазного строя, а по форме должны начаться (и начинаются) растерянными потугами буржуазии избавиться от ею же созданной и для нее ставшей невыносимою законности>[1229].
Тенденция, предсказанная Лениным, проявилась в различных общественных сферах. Нет ничего удивительно в том, что одной из важнейших сфер ее приложения оказалась буржуазная правовая идеология, представленная характерными для конца XIX - начала XX в. юридическими концепциями - общеправовыми по своим конечным выводам и одновременно цивилистическими с точки зрения как привлеченного фактического материала, так и основной отраслевой ориентации.
Именно сфера имущественного (гражданского) оборота с переходом к империализму претерпевает такое усложнение и обновляется в такой степени, что старые частноправовые нормы, при всей широте их логического объема, зачастую оказываются бессильными в столкновении с конкретными жизненными случаями. Для преодоления все более усугублявшегося разрыва между законом и жизнью принимались различные меры - начиная от отдельных законодательных нововведений и кончая формулярным правом, созданным капиталистическими монополиями и навязываемым экономически слабым, зависимым участникам правоотношений. Непосредственным откликом на указанные практические потребности явились и отдельные доктринальные построения, лишь поначалу подчиненные сугубо утилитарным целям, а в более широкой перспективе устремленные к тому, чтобы изменить самое соотношение права и факта, низвести закон до уровня отдельной жизненной ситуации и каждую такую ситуацию объявить законом.
Среди построений подобного рода на передний план выдвигаются те, которые впоследствии обрели известность под наименованием школы свободного права и, оказав влияние на юриспруденцию ряда стран, особенно широкое распространение получили во Франции и в Германии.
Приверженцы этой школы, неокантианцы по своему философскому мировоззрению, постулировали такую же неспособность законодателя устанавливать адекватные потребностям быстро развивающейся действительности юридические нормы, какую Кант приписывал в целом человеческому разуму, легко ориентирующемуся в мире <явлений> и обнаруживающему полную беспомощность перед миром <вещей в себе>. Чтобы избавиться от такой беспомощности в правовой сфере, было предложено самое радикальное средство - раскрепостить судью от связующего действия мертвой буквы закона, предоставив урегулирование юридически значимых конфликтов опирающемуся на накопленный жизненный опыт индивидуальному судейскому усмотрению. И только во избежание упрека в прямолинейно нигилистическом отношении к закону приходилось в рамках той же доктрины прибегать к обрисовке методов увязки законодательных норм с судейским усмотрением. Вместе с тем непомерно возвеличенное в своей значимости, возведенное в ранг социальной категории высшего порядка, судейское усмотрение объявляется способным решать правовые коллизии, руководствуясь не правовыми, а различными иными критериями.
Так, Канторович говорил, что решение судьи должно быть основано на его собственном опыте, позволяющем определить социальную функцию нормы и социальные последствия выносимого решения[1230]. Румпф считал, что обнаружение общественной ценности рассматриваемых отношений должно позволить судье самостоятельно сформулировать общую норму и подвести под нее конкретный жизненный случай[1231]. По мнению Штампе, решающим критерием оценки представших перед судом отношений должно быть <взвешивание> сталкивающихся интересов с точки зрения их социальной полезности[1232]. Штаммлер рекомендовал судье ориентироваться на то, в какой мере его решение обеспечивает взаимное уважение между членами общества и не приведет ли оно к произвольному исключению индивида из системы общественных связей[1233]. Более осторожно к той же проблеме подходил Жени, признавая за судьей право обратиться к собственному житейскому опыту лишь после исчерпания всех наличных легальных возможностей[1234]. В противоположность этому Эрлих, стоявший на самых крайних позициях школы свободного права, объявлял опытность судьи, основанную на долголетней практике, единственным эффективным средством правового регулирования и призывал не только к отмене связующей силы закона, но и к освобождению судей от контроля со стороны вышестоящих инстанций, упразднению коллегиальных и созданию единоличных судебных органов[1234].
Реальное применение установок школы свободного права по вполне понятным причинам обнаружилось главным образом в судебной практике по гражданским и в особенности торговым делам. Но эти установки не прошли бесследно и для буржуазного законодательства. Под их непосредственным влиянием формулируется знаменитый § 1 Швейцарского гражданского уложения 1907 г., провозгласивший, что <в случае, если законом не установлено никаких предписаний, судья должен поступать соответственно нормам обычного права, а если и они отсутствуют, - соответственно правилу, которое он сам установил бы в качестве законодателя>. Рассматриваемая в законодательно-техническом плане, эта норма закрепила не более чем признаваемое всеми современными гражданско-правовыми системами правило об аналогии. Но в своем непосредственном содержании она зиждется не на объективных критериях (принципы права, его основные начала и т. п.), а всецело на судейском усмотрении. Это и дает основание утверждать, что за пределами предписаний, выраженных в законе, Швейцарское гражданское уложение пошло практически по пути, теоретически проложенному школой свободного права, которая отличается той несомненной особенностью, что свои удары по буржуазной законности наносит преимущественно в направлении норм объективного права. Точно такая же цель, но уже посредством атаки, обращенной против субъективных прав, преследовалась двумя другими концепциями рассматриваемого периода.
Первая из них, известная под наименованием психологической школы, хотя и сопрягается иногда с такими именами, как Раомини в Италии или Бирлинг в Германии, свое систематизированное изложение нашла в творчестве русского дореволюционного юриста Л. И. Петражицкого, не только воплотившего ее в общетеоретических работах (таких, например, как двухтомная <Теория права и государства в связи с теорией нравственности>. СПб., 1909, 1910), но и распространившего соответствующие общие выводы на конкретные, прежде всего гражданско-правовые, институты и понятия (такие, например, как юридическое лицо, доходы и т. п.).
Для Петражицкого не существует двух видов правовых явлений - субъективных и объективных. Он призывает поэтому к поискам такого определения права, с помощью которого можно было бы полностью устранить юридический дуализм подобного рода. Его концепция исходит не из размежевания права в объективном и субъективном смысле, а <из совсем иной точки зрения> - <из отрицания реального существования того, что юристы считают реально существующим в области права, и нахождения реальных правовых феноменов как особого класса сложных эмоционально-интеллектуальных, психических процессов>[1235]. Правовые явления относятся не к материальной, а к психической, эмоционально-интел-лектуальной сфере. От входящей в ту же сферу нравственности они отличаются тем, что нравственные феномены основаны на этическом сознании долга без приурочения его к определенному лицу (императивные эмоции), тогда как правовые феномены, также опирающиеся на этическое сознание долга, предполагают его причитаемость определенному другому субъекту (императивно-атрибутивные эмоции). <Такие обязанности, которые осознаются несвободными по отношению к другим, закрепленными за другими, по которым то, к чему обязывается одна сторона, причитается другой стороне как нечто ей должное, мы будем называть правовыми, или юридическими обязанностями... Правовые обязанности, долги одних, закрепленные за другими, рассматриваемые с точки зрения той стороны, которой долг принадлежит, мы, с точки зрения актива, будем называть правами>[1236]. Иными словами, субъективное право есть некий находящийся на стороне управомоченного коррелат императивно-атрибутивного сознания этической обязанности, сформировавшегося на стороне обязанного лица. Поскольку этот коррелат также не выходит за рамки психического переживания, его реальность становится в высшей степени проблематичной, пребывающей на грани бытия и небытия, того, что есть, и того, что не существует.
Примечания:
[133] См.: Гримм. Основы учения о
юридической сделке в современной немецкой доктрине пандектного права, 1900,
стр. 281 - 287.
[1228] См.: Юриспруденция Древнего Рима (1962); Цивилистическая доктрина феодализма
(1970); Цивилистическая доктрина промышленного капитализма (1972).
[1229] В. И. Ленин. Полн. собр. соч., т. 20,
с. 16.
[1230] См.: Der Kampf um die Rechtswissenschaft. Berlin, 1906, s. 10.
[1231] См.: Gesetz und Richter. Leipzig,
1906, s. 8.
[1232] См.: Unsere Rechts - und
Begriffsbildung. Leipzig, 1908, s. 18.
[1233] См.: Хозяйство и право. СПб, 1907, с. 3 и сл.
[1234] См.: Freje Rechtsfindung und freje Rechtswissenschaft. Tübingen, 1903, s. 14.
[1234] См.: Freje Rechtsfindung und freje Rechtswissenschaft. Tübingen, 1903, s. 14.
[1235] Л. И. Петражицкий. Теория права и
государства в связи с теорией нравственности. Т. 1. СПб., 1909, с. 86.
[1236] Там же, с. 50.