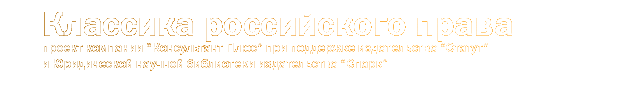Иоффе О.С. Избранные труды по гражданскому праву: Из истории цивилистической мысли. Гражданское правоотношение. Критика теории "хозяйственного права"
Первым противопоставив в области защиты владения право факту, Савиньи рассматривал владение как физическую возможность непосредственного обладания вещью с исключением какого бы то ни было воздействия на нее, исходящего от третьих лиц. В существе своем владение - не право, а факт, хотя и влекущий за собой определенные юридические последствия (например, приобретение права собственности по давности владения). Но так как владение не является правом, то и нарушение его не могло бы стать правонарушением, если бы наряду с владением не нарушалось какое-либо право. И ущемление определенного права действительно происходит. Поскольку нарушение владения связано с насилием, устремленным против владельца, постольку нарушается право последнего требовать, чтобы никто не причинял ему никакого насилия. А если несправедливость, заключающаяся в насилии против личности, должна быть устранена во всех своих последствиях, то это предполагает также охрану и восстановление владения как такого фактического состояния, которого насилие коснулось[125].
Таково вкратце содержание концепции Савиньи. Оспаривая ее, Иеринг спрашивал, почему не обеспечивается защитой несамостоятельное владение, раз все дело в борьбе с насилием против личности; по каким причинам при таком насилии защищается не самая личность, а ее владение, и т. п.? Как подчеркивал Иеринг, ни на один из его многочисленных вопросов было бы невозможно ответить, оставаясь верным теории Савиньи, что само по себе свидетельствует о ее непригодности. Но ошибочность этой теории имеет и глубинные причины. Состоят они в том, что, покинув владение, Савиньи устремил свои поиски по таким путям, идя которыми, к владению вообще трудно возвратиться. Он не заметил, что хотя владение может осуществлять не только собственник, само оно есть не что иное, как внешняя видимость собственности, ее ближайший и надежный форпост. Защита владения как осязаемой реальности собственности служит защите самой собственности. И если практически ею может воспользоваться несобственник, причем иногда даже против собственника, то объективное предназначение такой защиты состоит в том, чтобы в случае спора облегчить владеющему собственнику бремя представления доказательств, сведя его к единственной ссылке на самый факт владения. Ключ к пониманию всего строя владельческой теории лежит в связи владения с собственностью: в своих отвлеченных границах владение вполне параллельно собственности, точно так же, как конкретные условия владения отдельной вещью полностью совпадают с внешними условиями отношения к той же вещи ее собственника. Обеспечение беспрепятственного осуществления права собственности и его эффективной охраны - вот в чем суть защиты владения[126].
На этот раз суть ее действительно обнаружена точно и совершенно безошибочно. Но Иеринг не был бы не просто буржуазным, а выдающимся буржуазным юристом, если бы от него ускользало реальное содержание даже таких правовых институтов, в которых частная собственность находит самую непосредственную поддержку и наиболее интенсивное подкрепление. В то же время не подлежит сомнению, что отмеченный случай - явление эстраординарное, так как буржуазной цивилистике очень редко сопутствуют чисто концептуальные успехи. Если она и накопила определенные достижения, то лишь в меру разработки сугубо юридических конструкций применительно к многочисленным сугубо конкретным вопросам. Ознакомление со всеми такого рода конструкциями отняло бы слишком много места и времени, да и едва ли имело бы познавательное значение, учитывая, что многие из них рассчитаны на строго определенные хронологические рамки, детерминированные соответствующими историческими условиями. Но конструкции по отдельным вопросам все же заслуживают внимания как для показа конкретных форм воплощения буржуазной цивилистической доктрины, так и для выявления связи между нею и буржуазной законодательной практикой.
Из общей их совокупности целесообразно остановиться по крайней мере на конструкциях троякого рода: о моменте перехода права собственности, о приобретении этого права по давности владения и о границах его защиты при столкновении интересов собственника и незаконного владельца.
В определении момента перехода права собственности доктрина оставалась единодушной применительно только к вещам, определенным родовыми признаками, ибо никаким иным способом, кроме передачи, перенести право собственности на эти вещи с отчуждателя на приобретателя невозможно. Когда же дело касается вещей, определенных индивидуальными признаками, то, рассуждая абстрактно, здесь применима как система передачи (традиции), так и консенсуальная система, приурочивающая переход права собственности от отчуждателя к приобретателю ко времени заключения отчуждательной сделки (купли - продажи, дарения и т. п.). И та и другая система вызывали как поддержку, так и критику в буржуазной цивилистике.
Сторонники системы традиции (Ранда, Экснер, Окс, Шершеневич и др.) обращали внимание на ее публичный эффект - очевидность для всех того неоспоримого факта, что раз к приобретателю перешло владение вещью, он должен одновременно стать и ее собственником. Сторонники консенсуальной системы (Планиоль, Васьковский, Трепицын и др.) подчеркивали, что поскольку в момент заключения договора отчуждатель лишается возможности распоряжения вещью, она должна признаваться с того же момента принадлежащей приобретателю, на которого следует возложить риск ее случайной гибели, предоставив ему право истребовать вещь от любого последующего приобретателя.
В английском и французском законодательстве закреплена консенсуальная система, а в германском - система традиции. Ее же воспринял и проект русского гражданского уложения, в отличие от действовавшего в России законодательства, которое, по единодушному мнению его истолкователей, поддержанному сенатской практикой, шло по пути консенсуальной системы. Учитывая, однако, недостатки и преимущества обеих систем, принимались практические меры к ослаблению существенных различий между ними. Так, германское гражданское уложение, введя систему традиции, допускало такие отступления от нее, как, например, constitutum possessorium - возникновение права собственности у приобретателя в момент заключения договора с одновременным оставлением вещи во временном владении отчуждателя, а французский гражданский кодекс, закрепляя консенсуальную систему, не исключал такого соглашения сторон, по которому риск случайной гибели вещи возлагается на отчуждателя, если вещь после совершения отчуждательной сделки временно остается в его владении.
Более сложна конструкция приобретения права собственности по давности владения. Так же, как и посессорная защита, она вводилась в интересах собственника, который, будучи лишен возможности по истечении длительного времени доказать действительное основание приобретения им собственнических правомочий, мог освободиться от тяжелого бремени такого доказывания, сославшись на один только легко доказуемый факт длительного владения. Эта конструкция служила, однако, не только интересам отдельных собственников, но и общим потребностям гражданского оборота, устойчивая определенность которого не могла быть обеспечена, если бы по истечении какого угодно времени с момента поступления вещи в обладание данного лица не исключалось ее истребование по иску бывшего собственника.
Но если практическая потребность в таком институте считалась неоспоримой, то при определении условий, необходимых для приобретения права собственности по давности владения, единодушие проявлялось лишь в том, что к их числу во всяком случае должны относиться самое владение и определенная его продолжительность во времени. Вместе с тем ожесточенные споры возникали всякий раз, когда обсуждались такие обстоятельства, как правомерность владения (хотя бы не реальная, а мнимая - путативная) или время, которое должно истечь для приобретения права собственности даже на основе неправомерного владения. Соображения <за> и <против> базировались, с одной стороны, на нравственном порицании таких юридических норм, в силу которых право собственности могло бы возникнуть даже у лица, незаконно завладевшего чужим имуществом, а с другой стороны, на практическом опорочении института давностного владения, если бы он не действовал именно в случаях, которые практическую необходимость в нем делают особенно настоятельной. Идя компромиссным путем, гражданское законодательство капиталистических стран в принципе связывает возникновение права собственности с длительным добросовестным владением, не исключая, однако, его приурочения и к недобросовестному владению, если последнее сохранялось в продолжение еще более длительного времени.
Вопрос о приобретении права собственности по давности владения возникает в различных ситуациях, включая случаи, когда вещь приобретается от лица, не управомоченного на ее отчуждение. Но если действующая конструкция виндикационного иска не строится на началах неограниченного его применения, то, поскольку собственник лишается права на истребование его неправомерно отчужденной вещи, последняя сразу же переходит в собственность приобретателя, не дожидаясь истечения срока приобретательной давности.
Такие последствия наступали тем чаще, чем более сокращались по мере усиления и развертывания товарного оборота предоставляемые собственнику виндикационные возможности. Так, в прусском уложении 1794 г. хотя еще и воспроизводится римское начало неограниченной виндикации согласно правилу <никто не может передать другому больше прав, чем он сам имеет>, но уже с той существенной оговоркой, что при истребовании вещи у добросовестного приобретателя собственник обязывается возместить ему все расходы, связанные с приобретением вещи. Английское право следовало тому же принципу, исключая, однако, виндикацию у добросовестного приобретателя денег, предъявительских ценных бумаг, а также вещей, купленных на открытом рынке или в магазине, кроме краденых или принадлежащих короне. В отличие от этого, законодательство стран континентальной Европы с начала XIX в. решительно стало на путь существенного ограничения виндикации в пользу добросовестного приобретателя, оставаясь на стороне собственника лишь в случае утраты или хищения вещи (Франция), либо вообще ее выбытия помимо воли собственника из его обладания (Германия). При подобной законодательной конструкции доктрина к числу элементов фактического состава, порождающего у приобретателя право собственности, относила добросовестность приобретателя (bona fides), правомерность приобретения (justus titulus) в том смысле, что совершенная сделка не страдает другими пороками, кроме неуправомоченности отчуждателя на ее совершение, и передачу самой вещи при системе традиции или пребывание ее в фактическом владении приобретателя при консенсуальной системе. Но оценка в буржуазной цивилистике самой ограниченной виндикации была далеко не единообразной.
Делались попытки вывести одно юридическое правило (ограничение виндикации в пользу добросовестного приобретателя) из другого юридического правила (риск случая несет собственник). Но эти попытки не выдерживали даже чисто догматической критики, ибо в определенных условиях риск случая все же возлагается не на собственника, а на приобретателя. Иногда ссылались на самую добросовестность как вполне достойную юридической охраны. Однако и такие ссылки легко отводились указанием на то, что добросовестность может служить извинительным обстоятельством, но не основанием имущественных приобретений. Ближе других к реальной действительности стояли те буржуазные цивилисты, которые, подобно Петражицкому, апеллировали к потребностям оборота, отмечая, что право призвано содействовать максимальному ускорению процесса перемещения продукта от изготовителя к его дестинатарию, а это было бы невозможно при возложении на приобретателя вещи обязанности каждый раз проверять управомоченность контрагента на ее отчуждение. Выходит, следовательно, что не ради добросовестности ограничиваются возможности отдельных собственников, но самая добросовестность принимается во внимание лишь в той мере, в какой это необходимо для укрепления частнособственнического оборота. Если, однако, нормы о праве собственности лишь косвенно служат этой цели, то свое предельно непосредственное выражение она находит в нормах буржуазного договорного права.
В. Договор
Уже было отмечено, что в трактовке права собственности буржуазная цивилистика обнаруживала значительные колебания между концепциями отношения человека к вещи и отношения собственника со всеми несобственниками. Казалось бы, что самое противопоставление праву собственности договорного, как и вообще обязательственного, права должно было начисто исключить какие-либо элементы овеществления по крайней мере из этой области правовых связей. Ничего подобного, однако, не случилось: нашлись цивилисты, умудрившиеся фетишизировать обязательственное право не в меньшей степени, чем право собственности. Вот что писал, например, французский юрист Газэн: <Точно так же, как право собственности связано с вещью..., и обязательство должно рассматриваться как определенная ценность. В таком случае становится ясным, что личность должника или личность кредитора имеет очень малое значение. Должник может быть в данный момент не определен, он может измениться или даже вообще исчезнуть без того, чтобы прекратилось обязательство, ибо обязательство имеет в качестве объекта не его личность, а его имущество>[127]. Еще дальше в том же направлении шел его соотечественник Жалю, который говорил, что <обязательство точно так же, как собственность, стало... благом среди прочих благ..., правом не на личность, а правом на вещь...[128], и как утверждал Годеме, <единственное его отличие от вещного права состоит в том, что оно обременяет не в отдельности определенную вещь, а все имущество в целом>[128].
Но рассуждения такого рода не могли занять господствующего места в буржуазной цивилистике ввиду их резкого несоответствия реальным фактам, очевидным даже для внешнего восприятия. Факты эти оказались настолько неодолимыми, что и юристы, расходившиеся в выводах о составе правоотношений собственности, обычно проявляли полное единодушие в характеристике состава обязательственных правоотношений. Хотя, например, Голевинский и Шершеневич придерживались разных взглядов на право собственности, переходя к обязательственному праву, первый писал, что обязательство порождает отношение между двумя лицами - верителем, имеющим право требования, и должником, обремененным долгом[129], а второй подчеркивал, что обязательство, как и всякое правоотношение, есть связь активного (управомоченного) лица с пассивным (обязанным) субъектом[130]. То же самое наблюдалось и в немецкой цивилистической литературе. Не только Виндшейд, считавший <межлюдским> любое правоотношение, усматривал такое же качество в обязательстве[131], но и, например, Тур, <овеществляя> право собственности, противопоставлял ему обязательство как отношение, покоящееся <на предписании законов, в силу которых должно последовать исполнение должником кре-дитору>[132]. При этом едва ли нужно специально подчеркивать, что если даже констатация двусубъектного характера права собственности оставалась далекой от выявления его классовой сущности, то тем меньше оснований ожидать раскрытия на почве аналогичных взглядов такой же сущности в обязательствах. Их анализ шел по совершенно иному пути, предуказанному потребностями частноимущественного оборота, который нуждался во вполне определенном правовом нормировании и в адекватном ему гносеологическом подспорье.
Прямым откликом на эти потребности явился тезис о договорной свободе, предполагающей как самоопределение сторон в заключении и формировании условий договора, так и недопустимость его расторжения по воле одной из сторон. Этот тезис в домонополистической буржуазной цивилистике имел ведущее значение. Только некоторые немецкие юристы утверждали, что не существует обязательств, основанных на одном лишь соглашении сторон, поскольку отдельные договорные условия почти всегда определяются не этим соглашением, а императивными нормами закона. Однако подобное утверждение не встречало большого резонанса не только в русской или французской, но даже в немецкой цивилистике, если иметь в виду подавляющее большинство ее представителей.
В опровержение его указывалось, что императивные нормы закона, если и определяют условия договора, то не существенные (essentialia) или случайные (accidentalia), а только обычные (naturalia), по самой своей сущности не способные повлиять на природу договорного соглашения. К тому же, раз договор заключен, то, значит, стороны согласились подчинить его также условиям, хотя и закрепленным в императивном законе, но становящимся обычными договорными условиями уже в силу состоявшегося соглашения. Со временем, правда, для оспаривания идеи договорной свободы появился новый фактический материал, связанный, например, с широким размахом разнообразных публичных служб (городской транспорт и т. п.), с одной стороны, обязанных заключать договоры с любым и каждым, а с другой, заранее определяющих условия будущего договора, которые не подлежат согласованию и могут быть либо полностью приняты, либо целиком отвергнуты вторым контрагентом. Но внимание буржуазных цивилистов эти явления привлекли не сразу и были включены в их доктринальный арсенал гораздо позднее, когда капитализм вступил в империалистическую стадию своего развития. В условиях промышленного капитализма идея договорной свободы целиком пронизывает как общее учение о договорах, так и подход к отдельным связанным с ними вопросам. В этом смысле весьма показательна эволюция, которую претерпела буржуазная цивилистика в своем отношении к значению воли сторон для сделок вообще, договоров в особенности.
Приводящее к совершению сделки волевое действие слагается из воли и волеизъявления. Если они совпадают, то при соблюдении требований закона ничто не может воспрепятствовать наступлению нужного юридического эффекта. Сложнее обстоит дело в случаях расхождения между ними, когда приходится отдавать предпочтение либо внутренней воле, либо волеизъявлению.
Вплоть до середины XIX в. господствующая роль принадлежала теории воли (Савиньи, Бринц и др.). Она строилась на той посылке, что в принципе договора нет, если волеизъявление не соответствует внутренней воле. Но так как подобная посылка не согласуется не только с развитым, а вообще с любым экономическим оборотом, сторонники самой этой теории были вынуждены сопроводить ее различными оговорками. Они указывали, в частности, что лишено юридической силы лишь такое волеизъявление, которое ненамеренно искажает содержание внутренней воли, а при намеренном (умышленном) ее искажении юридическая связанность должна наступить несмотря на противоречие между волей и волеизъявлением.
Чем больше, однако, ускорялось совершение товарных операций и чем масштабнее становилось движение товаров, тем меньше почвы оставалось для теории воли как в чистом ее виде, так и с различными оговорками. Уже к середине XIX в. она утрачивает свою былую распространенность, а затем почти вовсе сходит со сцены, уступив место новой концепции - теории волеизъявления (Коллер, Пининский и др.). Сторонники этой теории, начав с чисто психологических рассуждений о том, что недопустимо отрывать волю от волеизъявления, что они составляют две стороны одного и того же феномена и что совершенно немыслима внутренняя противоречивость такого единого феномена, приходили к выводу о невозможности существования волеизъявления, вовсе не опирающегося на определенную внутреннюю волю. Юридически связывающую силу должно поэтому иметь самое волеизъявление, как бы оно ни соотносилось с внутренней волей.
Примечания:
[125] См.: Savigny. Recht des
Besitzes, 1865.
[126] См.: Иеринг. Об основаниях защиты
владения. 1883.
[127] Gazin. Essai critique sur la notion de patrimoine dans la doctrine classique,
1910, p. 454 - 455.
[128] Gaudemet. Etude sur le transport de
dette à titre particulier, 1898, p. 30.
[128] Gaudemet. Etude sur le transport de
dette à titre particulier, 1898, p. 30.
[129] С. Голевинский. О происхождении и
делении обязательств, стр. 4.
[130] См.: Шершеневич. Учебник русского гражданского
права, 1, стр. 83.
[131] См.: Windscheid. Lehrbuch des
Pandektenrechts, s. 101.
[132] Tuhr. Der allgemeine Teil des
deutsehen bürgerliehen Rechts, s. 133.