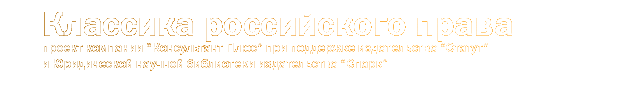Черепахин Б.Б. Труды по гражданскому праву
Не трудно убедиться, что даже если встать на точку зрения Г.Н. Амфитеатрова, т.е. если признать, что для приобретения права собственности от лица, не управомоченного на его предоставление, всегда требуется передача вещи, т.е. поступление вещи во владение приобретателя, - основанием приобретения является не владение, а то, что автор называет условием правомерности владения приобретателя, т.е. необходимые и достаточные элементы фактического состава приобретения права собственности. К тому же перечисление элементов этого фактического состава дано у него не полно. Необходимо отметить, что все эти условия правомерности владения свойственны также владению титулированного добросовестного приобретателя похищенной и утерянной вещи.
Правомерное владение не юридическое основание, а юридический результат приобретения права собственности, наличие права собственности у владельца. Само владение в данном случае становится правомерным потому, что владелец приобрел право собственности на вещь, а не наоборот.
К тому же по советскому гражданскому праву, владение не только не является само по себе юридическим основанием приобретения права собственности, но даже не во всех случаях переход вещи во владение приобретателя (передача вещи) относится к фактическому составу приобретения. Передача вещи приобретателю не требуется для перехода права собственности на индивидуально-определенные вещи. Передача требуется лишь для перехода права собственности на вещи, определяемые родовыми признаками.
Третьим элементом фактического состава является добросовестность приобретателя, что подтверждается статьями 183, 59, 60, примеч. 2 к ст. 60 и ст. 60-а ГК. Добросовестность приобретателя не делает отчуждателя управомоченным на отчуждение вещи, если он таких правомочий не имеет. Она не устраняет этот органический порок сделки, но обезвреживает его в интересах приобретателя при наличии других необходимых элементов фактического состава. О том, что из себя представляет требуемая нашим законодательством добросовестность приобретателя, равно как и относительно времени, к которому должна быть приурочена эта добросовестность, было сказано выше.
Дальнейшими элементами фактического состава являются: четвертый - определенный порядок выбытия вещи из владения собственника (не похищена, не утеряна) и пятый - чтобы вещь не принадлежала государству.
Из этих пяти элементов фактического состава второй отпадает в отношении вещей индвидуально-определенных (ст. 66 ГК), а два последних отпадают при отчуждении денежных ценных бумаг на предъявителя.
Как известно, в примеч. 2 к ст. 60 ГК сказано, что они "не могут быть истребованы от добросовестного приобретателя на том основании, что они ранее были утеряны или похищены, или принадлежали государственному учреждению или предприятию и были незаконно отчуждены каким-либо способом". Следовательно, на основании ст. 183 ГК эти фактические обстоятельства не препятствуют в этом случае приобретению права собственности. Для приобретения права собственности на денежные ценные бумаги на предъявителя достаточно первых трех элементов фактического состава: действительной двухсторонней отчуждательной сделки, передачи владения и добросовестности приобретения.
При наличии всех элементов сложного фактического состава, требуемых законом для данного случая приобретения права собственности от неуправомоченного отчуждателя, приобретатель становится собственником приобретенной им вещи. Приобретение права собственности происходит именно в момент завершения накопления всех элементов фактического состава.
Приобретение права собственности от лица, не управомоченного на его предоставление, является первоначальным способом, а не производным, поскольку право приобретателя не зависит от права отчуждателя (он его не имеет) и от права бывшего собственника (он его не отчуждает, и к тому же оно приобретается свободным от лежавших на нем вещных обременений).
Вместе с тем это приобретение является двухсторонне-сделочным (договорным), а не односторонним, так как в его фактический состав входит двухсторонняя отчуждательная сделка.
Таким образом, советское гражданское право дает ясный и достаточно полный ответ на вопрос о правовом положении вещи, которая не может быть виндицирована от добросовестного приобретателя.
Печатается по:
Б.Б. Черепахин.
Виндикационные иски в советском праве //
Ученые записки Свердловского юридического института. Т. 1. Свердловск: ОГИЗ, 1945. С. 34-69.
Юридическая природа и обоснование приобретения права собственности от неуправомоченного отчуждателя
I. ЮРИДИЧЕСКАЯ ПРИРОДА ПРИОБРЕТЕНИЯ ПРАВА СОБСТВЕННОСТИ ОТ НЕУПРАВОМОЧЕННОГО ОТЧУЖДАТЕЛЯ
В числе способов приобретения права собственности добросовестное приобретение права собственности от неуправомоченного отчуждателя занимает своеобразное место и вызывает оживленные споры в науке. Эти споры касаются прежде всего юридической конструкции этого способа приобретения права собственности, в особенности - его производного или первоначального характера и значения действительной отчуждательной двусторонней юридической сделки в фактическом составе этого приобретения. В связи с этим предметом спора является юридическая природа приобретения права собственности от неуправомоченного отчуждателя.
Добросовестное приобретение права собственности от неуправомоченного отчуждателя является безусловно первоначальным способом приобретения права собственности, так как право собственности приобретателя независимо от права собственности отчуждателя (такового права у него не было) и от права собственности прежнего собственника (оно приобретается свободным от всех обременений, в частности, от залоговых прав - ст. 98 ГК).
В связи с этим здесь нет и правопреемства, как это ошибочно полагает Шверин[279]. Как будет показано ниже, этот автор смешивает двусторонне-сделочный характер приобретения с правопреемством.
Необходимо иметь в виду, что, кроме разграничения первоначальных и производных способов приобретения права собственности, следует различать односторонне-сделочное и двусторонне-сделочное (договорное) приобретение права собственности.
Не следует думать, что первоначальное приобретение всегда является односторонне-сделочным, а производное - двусторонне-сделочным (договорным). Как первоначальное, так и производное приобретение права собственности может быть односторонне-сделочным и двусторонне-сделочным (договорным). Между тем многие ошибочно отождествляют первоначальное приобретение с односторонним, а производное - с двусторонним (договорным). С этим никак нельзя согласиться. Так, например, приобретение государством права собственности на выморочное имущество является производным приобретением, так как оно является правопреемством (универсальным - ст. 434 ГК).
Tо же следует сказать относительно конфискации и реквизиции[280], которые являются бесспорно односторонними способами приобретения права собственности государством и, вместе с тем, приводят к известному правопреемству. В частности, очень важно то, что государство несет в известных пределах ответственность по долгам, обременяющим конфискуемое или реквизируемое имущество, а также то, что третьи лица, имущество коих случайно включено в опись конфискуемого или реквизируемого имущества, имеют право в исковом порядке требовать освобождения его от описи[281]. Таким образом, здесь без сомнения имеют место производные способы приобретения права собственности.
С другой стороны, приобретение государством права собственности на невостребованную находку (ст. 68-г ГК), клад (Пост. ЦИК и СНК СССР от 3 января 1930 г. - СЗ, 1930, N 5, ст. 48[282]) является односторонним способом приобретения права собственности и, вместе с тем, - первоначальным. Здесь отсутствует правопреемство.
Приобретение права собственности по отчуждательной сделке от управомоченного отчуждателя является производным способом приобретения права собственности и одновременно двусторонне-сделочным (договорным). Здесь имеется правопреемство в самом чистом виде, и притом основанное на двусторонней отчуждательно-приобретательной сделке.
Наоборот, добросовестное приобретение права собственности от неуправомоченного отчуждателя является первоначальным приобретением, так как право приобретателя не зависит, как было указано выше, от права отчуждателя и от права бывшего собственника. В то же время оно является двусторонне-сделочным (договорным) приобретением, так как к его фактическому составу относится договор купли-продажи, мены, по некоторым законодательствам также дарения и т.п. добросовестного приобретателя с неуправомоченным отчуждателем[283].
В этом договоре должны быть налицо все элементы (фактического состава, за исключением правомочия отчуждателя на отчуждение.
Сходное соотношение имеется в некоторых иностранных законодательствах в институте приобретения права собственности по давности владения, например, в римском и пандектном праве, которые в состав реквизитов давностного приобретения включали justus titulus acquisitionis.
По вопросу о первоначальном или производном характере приобретения права собственности добросовестным приобретателем у неуправомоченного отчуждателя в теории нет единого мнения. Некоторые авторы высказываются за производный характер этого приобретения, другие - за первоначальный. Последние составляют господствующее мнение в этом вопросе. В соответствующих рассуждениях по большей части учтено и значение отчуждательной сделки. Однако из него сделаны не во всех случаях правильные выводы.
Прежде всего будут разобраны взгляды сторонников теории производного приобретения.
К. Гельвиг[284] совершенно правильно указывает, что правопреемство разнозначно производному приобретению правового положения. При этом он правильно считает, что характеризующим правопреемство (производное правоприобретение) элементом является связь между приобретенным правовым положением и первоначальным правоотношением. Новое правоотношение возникает потому, что существовало первоначальное правоотношение.
С другой стороны, по мнению Гельвига, в современном праве есть много норм, согласно которым лицо неуправомоченное имеет власть распоряжением от своего имени обеспечить правопреемство в чужом праве.
Из дальнейших рассуждений Гельвига[285] видно, что в изучаемом случае неуправомоченный отчуждатель создает (совместно с добросовестным приобретателем, следует добавить) отчуждательно-приобре-тательную сделку. Действительность этой сделки определяется, исходя из личности приобретателя. Вместе с тем по этой сделке на приобретателя переходит право не участвующего в сделке управомоченного лица, который и является правопредшественником.
В этих рассуждениях правильно то, что к фактическому составу добросовестного приобретения права собственности от несобственника относится, в частности, действительная отчуждательная сделка и что действительность этой сделки определяется в том, что касается ее участников, по личностям фактического (неуправомоченного) отчуждателя и добросовестного приобретателя.
Однако из этого отнюдь не следует, что здесь имеет место правопреемство. Искусственность этой конструкции подчеркивается, в частности, тем, что сторонники теории производного приобретения не единогласны в отношении фигуры правопредшественника в этом более чем странном правопреемстве.
Так, например, Гельвиг считает правопредшественником бывшего собственника. На той же точке зрения стоит А. Тур[286]. Наоборот, Гирке[287] считает, что приобретатель формально производит свое право от неуправомоченного отчуждателя, материально же является в то же время правопреемником того, из права которого создано его право. Также, в основном, полагает и Кромэ[288]. Этот автор считает, что в данном случае имеется производное приобретение права собственности, хотя и признает, что логика как будто говорит за первоначальное приобретение этого права, которое выходит за пределы права отчуждателя.
На самом деле, трудно себе представить, каким образом можно усмотреть правопреемство от лица, не имеющего данного права, и притом от лица, чье право собственности приобретается очищенным от всех лежащих на нем обременений, обновленным (см. Германское гр. улож. § 936-п, ГК РСФСР, ст. 86). Таким образом, приобретаемое право - это не старое, а новое право собственности, связанное со старым только единством объекта.
Для раскрытия содержания и, следовательно, понимания ошибки сторонников теории производного приобретения весьма интересны суждения одного из них - Вендта[289]. Этот автор усматривает в рассматриваемом случае иррегулярное производное правоприобретение без правопреемства.
Производный характер этого правоприобретения Вендт усматривает в обязательности наличия действительной отчуждательной сделки. Без этой сделки, как правильно полагает этот автор, приобретателю не поможет его добросовестность. Недействительность этой сделки исключает приобретение права собственности даже и добросовестным приобретателем.
Таким образом, у Вендта производный характер этого приобретения права собственности означает лишь приобретение при помощи двусторонней отчуждательной юридической сделки, т.е. двусторонне-сделочное приобретение. Та же ошибка имеется у Ганса Леемана в его комментарии к вещному праву Швейцарского гражданского уложения[290]. Признавая спорность вопроса о производном или первоначальном характере приобретения, основанного на добросовестности, он склоняется к признанию его производного характера. При этом он ссылается на то, что приобретатель приобретает при помощи отчуждательно-приобре-тательной сделки, без которой его добросовестность ему ничего не поможет. Если сделка ничтожна, право собственности не будет приобретено.
Правильно подчеркивает необходимость действительной отчуждательной сделки Шверин[291]. Он приходит к выводу, что данный способ приобретения является первоначальным, так как в нем отсутствует причинная связь между правом прежнего собственника и правом добросовестного приобретателя. Вместе с тем этот автор считает, что по действующему германскому праву данное приобретение является правопреемством.
Ту же ошибку допускает Гахенбург[292]. Трудно даже представить, как первоначальное приобретение может быть правопреемством и как в последнем может отсутствовать связь между правом правопредшественника и правом правопреемника.
Обратную ошибку допускает Иосиф Колер[293]. Совершенно правильно он считает добросовестное приобретение права собственности от несобственника первоначальным приобретением. Однако нельзя с ним согласиться, что в связи с этим достаточно одностороннего приобретения владения.
Еще Л. Гольдшмидт[294] отмечал, что поскольку право собственности приобретено от несобственника, нет, конечно, "производного" приобретения права собственности. Вместе с тем он решительно возражал Экснеру[295], который считал, что в этом случае не будет и приобретения путем передачи.
Таким образом, двусторонне-сделочный характер изучаемого приобретения сочетается с его первоначальным характером, то есть с отсутствием правопреемства. Эта точка зрения широко представлена в литературе вопроса.
Гастон Карлин[296], рассматривая правило - никто не может передать другому больше прав, чем сам имеет, - приходит к выводу, что оно не знает исключений. В тех случаях, когда право приобретается от неуправомоченного отчуждателя, оно приобретается, по сути дела, не от него, то есть не в порядке правопреемства, а в порядке первоначального приобретения особого рода. Это приобретение ближе всего подходит к приобретательной давности, хотя и не является таковой. Автор правильно отвергает теорию так называемой моментальной давности, имеющую широкое распространение во французской литературе, так как, по его мнению, "так же не может быть давности без истечения срока, как воздуха без кислорода".
Первоначальный характер приобретения и, одновременно, необходимость действительной распорядительной сделки правильно подчеркивает Рудольф Зом[297].
Он указывает (стр. 54) следующие предположения для приобретения прав через распоряжение неуправомоченного: 1) распорядительную сделку, которая сама по себе была бы достаточным основанием приобретения права, если бы распоряжающийся был управомочен на распоряжение[298]; 2) добрую совесть; 3) добрая совесть должна быть объективно оправдана легитимацией распоряжающегося (для приобретения движимости - владением § 932 и след.; для оборота поземельных книг - внесением в поземельную книгу § 892 и след.); 4) для приобретения движимости от неуправомоченного требуется еще, чтобы вещь была пригодна к приобретению от неуправомоченного. Вещи, вышедшие из владения собственника против его воли, за исключением денег, бумаг на предъявителя, вещей, купленных с публичных торгов, не допущены к приобретению от неуправомоченного.
Зом также считает, что это приобретение напоминает приобретение по давности только без срока.
"Современный оборот, по его мнению, не имеет времени ожидать: он требует немедленного приобретения добросовестным приобретателем. Тип приобретения одинаков".
Зом отрицает здесь правопреемство и производное приобретение в результате распоряжения неуправомоченного и видит здесь первоначальное приобретение права от лица, не управомоченного на его предоставление.
Также считает данное приобретение первоначальным Мартин Вольф и многие другие авторы[299].
Сторонники теории производного приобретения, а отчасти и те авторы, которые признают данное приобретение первоначальным (отрицают правопреемство), но двусторонне-сделочным, стремятся найти обоснование тому факту, что распорядительный акт неуправомоченного отчуждателя предоставляет право добросовестному приобретателю. Ответы на этот вопрос можно разделить на две группы:
1. Одни авторы так или иначе признают за отчуждателем "легитимацию", точнее легитимирующее действие владения[300], правовую власть распоряжения[301], т.е. в конечном счете за неуправомоченным отчуждателем признают правомочие на распоряжение чужим правом собственности в пользу добросовестного приобретателя.
Как правильно полагает Тур[302], "этим лицам во всяком случае не предоставлено правомочие; их поведение объективно, а если они недобросовестны, то и субъективно противоправно, но закон ради приобретателя сообщает этим действиям действительность против управомоченного, неуправомоченный имеет при известных обстоятельствах, при добросовестности приобретателя, не право, но фактическую возможность перенести чужое право". Дальше этот автор добавляет, что правовое положение здесь подобно тому, что имеет место при прекращении полномочия, которое по отношению к третьим лицам сохраняет силу, пока они не знают о прекращении полномочия (Германское гр. улож., § 170, постан. СНК РСФСР 4/ХI 1927 г., ст. 6 и 7 - СУ, N 112, ст. 756).
Рудольф Зом, хотя и требует тоже легитимации отчуждателя, но особо подчеркивает, что легитимация в данном случае не есть правомочие, но лишь внешнее удостоверение правомочия[303].
Примечания:
[279] Cl. von Schwerin. Beiträge
zur Erlänterung des Веgriffes der Rechtsnachfolge, München, 1905,
S. 31.
[280] Ст. 18 и 19 Пост. ВЦИК и
СНК РСФСР от 28 марта 1927 г. о реквизиции и конфискации – СУ, 1927 г., N 38,
ст. 248.
[281] ГПК, ст. 29, см. также циркулярное
письмо Верховного Суда СССР 9 июля 1936 г. N 39 – пост. прилож. к ст. 29 ГПК РСФСР, изд. 1942 г., стр. 167 и след.
[282] Также Положение о порядке
учета и использования национализированного, конфискованного, выморочного и бесхозяйного
имущества, утв. СНК СССР 17/IV 1943 г., ст. 9 (СПиР СССР, 1943 г., N 6, ст.
98) и инструкция НКФ Союза ССР от 31/V 1043 г. N 311, § 51 ("СФХ", 1943
г., N 9, стр. 2).
[283] Иначе по Японскому ГК (§
192 и 195), допускающему добросовестное приобретение в односторонне-сделочном
порядке, например, одностороннее завладение чужой вещью в добросовестном заблуждении,
что эта вещь ничья. Также по Французскому ГК, который довольствуется мнимым
титулом и, таким образом, не требует наличия действительного договора отчуждения.
Таким образом, по этим законодательствам добросовестное приобретение права собственности
от неуправомоченного отчуждателя может быть и односторонне-сделочным.
[284] Konrad Hellwig. Wesen und
subjective Begrenzung der Rehtskraft, S. 94–96, 103.
[285] Цит. соч., стр. 103.
[286] A. v. Tuhr. Der Allgеmeine
Teil des Deutschen Bürg. Rechts, II. Band, I. Hälfte (1914), S. 51.
[287] Otto v. Gierke. Deutsches
Privatrecht, II. Band, Sachenrecht, Leipzig,1905, S. 576.
[288] Сarl Crome. System des
Deutschen Bürgerlichen Reclits, I. Band (1900), S. 313.
[289] Wendt. Erwerb von einem
Nichtberechtigten, S. 17–21.
[290] Hans Leemann. Sachenrecht
(Kommentar zum Sсhw. ZgB. hrsgb. v. Dr. M. Gmür Bd.
IV, I. Abt., 2. Aufl.),
Bern, 1920, S. 422.
[291] Cl. von Schwerin. Beiträge
zur Erlänterung des Begriffes der Rechtsnachfolge, München (1905),
S. 19–33, bes. 31.
[292] Hachenburg. Vorträge,
S. 132, цитир. у Шверина, стр. 30.
[293] J. Kohler. Vertrag und
Uebergabe, S. 97.
[294] Goldschmidt L. Handbuch,
Band 1,2. Abt., Erlangen, 1868, S 811 ff. Note 28-a.
[295] Exner. Die Lehre vom Rechtserwerb
durch Traditio, Wien, 1867, S. 66, Note 58.
[296] Gaston Carlin. Niemand
kann auf einen Anderen, S. 5, 94f., 97, 103, 107, 117: право не переходит на
приобретателя, но возникает в его лице безотносительно к ранее основанным правам.
[297] Rudolf Sohm. Der Gegenstand,
S. 49–59.
[298] И.Н. Трепицын. Приобретение
движимостей, стр. 524 – пишет: "...Сделка должна быть действительной во всех
отношениях: со стороны содержания, формы, свободы и непринужденности волеизъявления,
право- и дееспособности сторон и т.д.; только один порок здесь допускается –
это отсутствие легитимации у традента на отчуждение...". Ср. F. Regelsberger.
Rechtserwerb vom Nichtberechtigten, S. 354 f.
[299] M. Wolff. Das Sachenrecht
(1932), S. 223, Note 26; A. v. Tuhr. Der Allgemeine Teil des Deutschen Bürg.
Rechts, II. Bd 1. Hälfte, S. 51, Note 88; H. Dernburg. Das bürg. Recht,
III. Bd. Das Sachenrecht, Halle, 1904, S. 305 ff. Stobbe – Lehmann. Deutsches
Privatrecht, II. Bd., S. 367, 408, 410; Kipp zu Windscheids Lehrbuch, I. Bd.
(9. Aufl.), 1906, S. 301, N 6.
[300] I.W. Hedemann. DieVermutung
(1904), S. 272 f.; О. V. Gierke. D. Privatrecht, II, S, 575 f.; Derselbe. Die
Bedeutung des Farnisbesitzes, S. 9; Wendt, op. cit. S. 77 ff.
[301] K. Hellwig. Rechtskraft
(1901), S. 96–98; С. Crome. System, III. Bd., S. 216; I. Bd. (1900), S. 313.
[302] A. v. Tuhr. Der Allg.
Teil des Deutschen Bürg. Rechts, II. Bd., § 43, S. 55; Derselbe. Bürgerl.
Recht, Allg. Teil, Berlin, 1923, S. 34 f. Ср. Enneccerus, I, 1. § 73, S. 180
f.
[303] Rud. Sohm. Der Gegenstand,
S. 52. Это уже по сути не легитимация, а видимость легитимации.