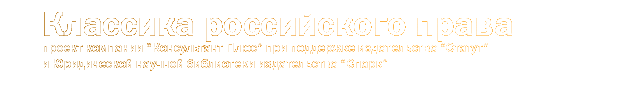Энгельман И.Е. О давности по русскому гражданскому праву: историко-догматическое исследование
Тем не менее мы решительно протестуем против заключения автора, будто даже давность исковая в <русском праве не существовала с древнейших времен и не развилась обычаем и практикой, как это полагают Неволин и Мейер, так что по XV век не видно даже никаких признаков существования такого обычая, и что, напротив того, давность иска в русском праве, подобно как в римском, есть учреждение не древнего, а позднейшего времени и установлена не обычаем, а государственной законодательной властью>.
На чем, однако, основывает г. Энгельман такое важное заключение? Не нашел ли он какой-либо новый законодательный памятник XV века, в котором ясно выражено, что им впервые вводится на Руси исковая давность? Нет, то, что автор называет законом, есть совершенно частное обстоятельство, заключающееся в следующем. По меновой грамоте, данной великим князем Василием Дмитриевичем митрополиту Киприану, последнему была предоставлена взамен города Олексина слободка Всеславль со всем, <что к ней потягло>, за исключением старой боярской купли или тех вотчин, которые были кем-либо приобретены за пятнадцать лет до этой мены. В 1492 году великий князь Иван Васильевич по примеру своего деда и в подтверждение его грамоты митрополиту постановляет послать в Всеславль своего боярина, с тем чтобы он и боярин, посланный от митрополита, разобрали, кому какие должны принадлежать в пределах означенной слободы земли и воды - митрополиту или частным вотчинникам - по купле, причем для признания за последними права удержать куплю в своей собственности великий князь предписывает, чтобы принят был по примеру, как судил его дед, срок владения за пятнадцать лет. Тут действительно указан 15-летний срок для иска со стороны митрополита, но следует ли отсюда, чтобы это постановление о давностном сроке было предписано настоящим частным случаем как общее правило для всех владений великого князя Московского? Правда, что и г. Энгельман называет приводимое здесь постановление о пятнадцатилетней давности законом не общим, а местным; однако тотчас же замечает, что <с распространением пределов великого княжества Московского, вследствие присоединения уделов, применение оного все более и более распространялось, пока он не сделался общим законом во всей Восточной, Московской Руси>. Но если это так, то где осязательные доказательства такого предположения, по крайней мере для XV столетия, так как уже в первом Судебнике указан другой давностный срок для иска о землях? Г-н Энгельман счел долгом в подтверждение своих слов просмотреть все правые грамоты и другие акты XV века, в которых встречаются какие-либо указания на исковую давность; но он нашел, что на основании одной грамоты тяжущийся указывает на пропущение семилетнего срока со стороны истца; что в другом акте говорится о владении за двадцать лет; в третьем истцу отказывается, потому что он не искал, а молчал пятьдесят лет; наконец, в приговоре звенигородского князя Андрея Васильевича 1491 года истцу отказывается в иске за пропущением шести лет со времени владения ответчиком его землей. Где же тут подтверждение применения к исковой давности не иного срока, как пятнадцатилетний, или же чтобы исковая давность была установлена в Северо-Восточной Руси лишь в конце XIV века? Скажем более: мы не сомневаемся, что могут еще отыскаться древнейшие памятники, чем вышеозначенная грамота великого князя Василия Дмитриевича, с указанием на применение в Московском и других княжествах давности, так точно, как до открытия Псковской судной грамоты мы не знали, что в Пскове она применялась в тяжбах о земле и воде уже в половине XIII века, и мнение наше мы основываем именно на том, что не находим такого резкого различия, какое видит г. Энгельман между давностью псковской и московской. Очень может быть также, что неизвестные еще памятники объяснят нам, что до издания первого Судебника в Восточной Руси применялась не только шестилетняя давность, как указывает вышеприведенная грамота звенигородского князя, но также давность десятилетняя, пятнадцатилетняя и еще гораздо более продолжительная или же более сокращенная, именно пятилетняя, как в Псковской грамоте. В подтверждение такого предположения можно сказать то, что сроки пяти-, десяти- и пятнадцатилетний были самые любимые, самые народные в Древней Руси, чтó видно из льгот, предоставлявшихся людям, которые селились на чьей-либо земле, в течение того или другого из этих сроков. Но уже и до возможного открытия таких памятников, которые подтвердили бы нашу мысль, мы признаем несомненным, что как в XV веке до издания первого Судебника, так и ранее не было одного общего, законом установленного срока, которым бы руководствовались судьи при решении спорных дел на основании давности. Не ясно ли это доказывают не только Псковская судная грамота, где говорится о давности четырех- или пятилетней, но и представленные самим г. Энгельманом примеры из нашей древней московской судебной практики, которые свидетельствуют, что в ней применялись и шести-, и пятнадцатилетний сроки, а тяжущиеся ссылались и на другие, как более, так и менее продолжительнее этих; а отсюда не следует ли прямо заключить, что при несуществовании общего закона для давности от усмотрения судьи в каждом данном случае зависело признать сроки владения или пропущения иска, указываемые тяжущимися, достаточными для присуждения собственности ответчику и для обвинения истца, как потерявшего на нее право тем, что в течение данного срока молчал, или же недостаточными ввиду тех условий, которыми были обставлены владение с одной стороны и молчание с другой. И вот, по нашему мнению, оправдание доводов Мейера и Неволина, которые старались доказать - и, как кажется нам, убедительно, что исковая давность существовала и применялась в судебной практике на Руси с древнейшего времени если не под влиянием положительного закона, то на основании общего обычая.
Обращаясь к Судебникам и к следующим за ними памятникам законодательства, до Уложения 1649 года включительно, г. Энгельман с большим вниманием обсуждает значение встречающихся в них сроков давности: трех- и шестилетнего в спорах о земле; сорокалетнего для выкупа вотчин; пяти-, десяти- и пятнадцатилетнего для отыскания беглых крестьян; пятнадцатилетнего в исках по обязательствам; и одного года для возвращения приплода животных, бывших в чужом владении. К сожалению, выводы автора основаны почти исключительно на статьях указов, в которых говорится о том или другом сроке, и в этом отношении надо отдать ему справедливость в полной добросовестности, с какой он старался разъяснить как происхождение, так и свойство всех этих сроков; тем не менее практическое применение их исследовано в рассматриваемом сочинении довольно слабо. Из множества дошедших до нас дел, в коих прямо или косвенно рассматривался вопрос о той или другой давности, г. Энгельман приводит только шесть, с 1499 по 1612 год, и даже не указывает ни на одно решение, вышедшее после этого времени до конца XVIII столетия, так что от давности по Уложению 1649 года переходит прямо к давности, учрежденной императрицей Екатериной II. Чем объяснить такое опущение со стороны автора, столь тщательного в своих разысканиях, что им разработаны даже и такие свидетельства о тогдашнем юридическом быте, в которых нет и помину о давности, единственно потому, что он предполагал найти в них какие-либо на нее указания. Не тем ли, как и замечает он в одном месте, что памятники рукописные, где можно найти требующиеся сведения о практическом применении той или другой давности в XVII и XVIII веках, ему были неизвестны или недоступны? Но и печатные издания документов могли бы доставить исследователю хороший материал по этому предмету, какова, например, правая грамота 1559 года, изданная профессором Сандуновым в 1830 году; дела XVII века о беглых и акты Западной Руси, которые напрасно автор оставил без внимания, ибо в них нашел бы он в высшей степени полезные указания на применение давности Литовского Статута в местностях, сопредельных с областями Северо-Восточной Руси, и на влияние, которое Статут необходимо имел и на судопроизводство этой последней, особенно чрез присоединение к ней разных городов с их уездами, принадлежавших великому княжеству Литовскому. Независимо от этих источников мы считаем также долгом заметить, что со времен Петра Великого ни в каком случае не должна была быть обойдена автором сенатская практика. А решения Правительствующего Сената напечатаны в значительном количестве в разных изданиях, частных и правительственных, конца XVIII и начала XIX века, как, например, в сборниках Правикова, Чулкова, Хавского и комиссии составления законов. Правда, богатейший материал сенатской практики XVIII века еще не издан: решения Правительствующего Сената, состоявшиеся в течение этого столетия, хранятся в Московском архиве Министерства юстиции, но доступ к ним нетруден и составление из них извлечений облегчается готовыми уже указателями и другими пособиями, так что, по нашему разумению, тот, кто избирает для своих исследований какой-либо предмет в области права XVIII столетия, в настоящее время уже никак не вправе устранять себя от изучения этого богатейшего источника, хотя бы и пришлось для того сделать поездку в Москву. Говорим это, впрочем, не в укор автору, который, может быть, и не имел целью представить в своем сочинении совершенно полное разыскание о развитии давности в России с древнейшего времени, так как главный предмет его исследования составляло, как мы уже заметили, догматическое изложение ее постановлений; мы сочли себя обязанными указать на приведенный недостаток его труда единственно ввиду положения о наградах графа Уварова, которое требует не только чтобы представляемые к соисканию юридические сочинения относились к истории законодательства России (§ 3), но также <чтобы рецензенты при обсуждении таких сочинений обращали преимущественное внимание на то, в какой мере сочинение способствует к полному познанию избранного автором предмета>. С этой точки зрения, находя, что и выводы г. Энгельмана относительно давности, учрежденной императрицей Екатериной II, именно: о том, что между ею и давностью, имевшей силу в России в предшествовавшее время, нет никакой связи; что мнение Неволина, принимающего влияние Литовского Статута на введение нынешней десятилетней давности, неверно и что, наконец, выражение <давность владения> встречается в первый раз в Своде Законов 1832 го-да, - еще далеко не убедительны, и напротив, очень может быть, будут опровергнуты при дальнейших разысканиях по источникам, мы полагаем, что важные достоинства, которыми отличается догматическая часть настоящего сочинения, еще недостаточны для того, чтобы присудить автору за его исторические разыскания о давности в русском праве большую награду. Останавливаясь же на том, что многие источники русского законодательства в отношении к давности по гражданскому праву разработаны в рассматриваемом сочинении весьма внимательно; что сделанные отсюда выводы тщательно соображены в нем с предположениями и заключениями, находящимися в разных юридических сочинениях и даже мелких статьях; что стройной систематической группировкой в своем исследовании разных видов давности г. Энгельман дает читателю впервые возможность обнять и уяснить себе разом все эти виды; что, наконец, толкования его тех мест манифестов императрицы Екатери-ны II 1755 и 1787 годов, которые относятся к давности чрез сличение их с современными им и позднейшими уставами, указами, сенатскими решениями и мнениями Государственного Совета, составляют такой полезный труд для правильного понимания не только этих манифестов, но и статей о давности в действующем законодательстве, что им одним, по справедливости, нельзя отказать в значении историко-критической монографии, исполненной с большим талантом, - мы, не обинуясь, считаем автора вполне достойным второстепенной награды[54].
Печатается по:
Отчет о XII присуждении наград графа Уварова //
Записки императорской Академии наук. N 56.
СПб., 1868. С. 243-261.
М.Я. Пергамент. Памяти двух русских цивилистов
Истекший 1912 год ознаменовался тяжкой и горестной утратой двух выдающихся представителей научного правоведения в России. На пространстве нескольких дней один за другим сошли в могилу бывший профессор Московского университета Габриэль Феликсович Шершеневич (скончался 31 августа) и заслуженный профессор, почетный член университетов Св. Владимира и Юрьевского Иван Егорович Энгельман (4 сентября).
Нестор русских цивилистов И.Е. Энгельман родился в Курляндии (Митаве). Уже в 1855 году он оставляет со степенью кандидата Петербургский университет, где проходил курс юридических наук и был учеником Неволина. В 1859 году за <рассуждение> на тему <О приобретении права собственности на землю по русскому праву> Энгельман удостаивается степени магистра гражданского права и вскоре после того единогласно избирается Советом Дерптского университета на существовавшую в то время кафедру русского права. Здесь, в Дерпте, Иван Егорович и остается до конца своей жизни, ведя преподавание вплоть до средины 1900 года. (С преобразованием юридического факультета в конце восьмидесятых годов И.Е. занял кафедру <русского гражданского права и судопроизводства>.) На поступавшие к нему предложения перейти в другую высшую школу он каждый раз отвечал отказом, уступая тем просьбам факультета и Совета своего университета, желавших <сохранить такую крупную научную силу>.
Несложна с внешней, чисто фактической стороны и биография Г.Ф. Шершеневича. Родившись в 1863 году на юге России, в Херсонской губернии, Шершеневич еще в отрочестве оказывается в Казани. В Казани он посещает гимназию, а затем университет, при котором оставляется для усовершенствования в науках, в Казани же он становится университетским преподавателем, сперва в звании приват-доцента, а позже, по защите своей второй, докторской, диссертации об <Авторском праве на литературные произведения> (1891), и в качестве профессора. Освободительное движение и вслед за ним обновление нашего политического строя отрывают на время Габриэля Феликсовича от тихих, любимых занятий. Его избирают в Государственную Думу, и в ней он - один из деятельнейших, полезнейших, виднейших народных представителей первого созыва. В наступившее после того пятилетие, от 1906 по 1911 год, Шершеневич служит Московскому университету. Его плодотворная работа в этот период поражает своей интенсивностью, своей напряженностью. Она пресекается в университете, когда вместе с рядом других выдающихся членов автономной коллегии Шершеневич, в чутком понимании своего долга ученого и гражданина, отказывается от университетской кафедры, покидает старейший рассадник у нас высшего знания...
Ни тот, ни другой покойный ученый не был только цивилистом. Нет, оба по всей справедливости могут и должны быть названы настоящими энциклопедистами в науке права. До того разнообразны те юридические дисциплины, которым они отдавали свои недюжинные силы.
И.Е. Энгельман - славный вместе с тем историк русского права. Его <Систематическое
изложение гражданских законов, содержащихся в Псковской судной грамоте>
считается и по настоящий день лучшим в нашей литературе, а исторический
очерк крепостного права в России, его происхождения, развития и отмены,
компетентные судьи признают вкладом научной ценности. Равным образом и
русское уголовное право не было вовсе чуждо Энгельману. В немецких заграничных
изданиях он не раз помещал содержательные статьи именно по этому предмету.
И опять-таки не кто иной, как он, познакомил германский, а при его посредстве
и вообще западноевропейский мир с русским государственным правом, проявив
себя и тут, на поприще догматики отечественного публичного права прекрасным
работником. Труд его
Не менее многосторонним должен быть назван талант Шершеневича. Габриэль Феликсович написал выдержавшую два издания <Историю философии права>; им же написана <Общая теория права>, которая и в наличном, неоконченном виде, в пределах своих трех появившихся выпусков, бесспорно, представляет интересное, широко задуманное руководство, убедительно свидетельствующее о синтезе мысли и работы составителя. Но в особенности не приходится, очевидно, забывать, что Шершеневич прежде всего - коммерсиалист, что центр его ученой и преподавательской деятельности, очевидно, не в ином чем, как в сфере науки торгового права и ее разработки и изложения. В этом отношении - если даже и забыть об отдельных монографиях и статьях, сюда относящихся, - достаточно только напомнить об основном труде Шершеневича, его капитальнейшем <Курсе торгового права> (4-е изд., 1908-1912, тома I-IV), вместе с его же <Учебником торгового права> издававшимся многократно и ставшим незаменимым пособием для всякого, кто приступает к изучению русского торгового права.
Но обратимся к главнейшим цивилистическим трудам отошедших от нас ученых - цивилистическим в более строгом смысле слова. На страницах <Вестника Гражданского Права> читателю естественно ожидать, что именно этим трудам и их характеристике уделено будет пусть небольшое, однако преимущественное место.
Обе диссертации И.Е. Энгельмана представляют исследования историко-догматического характера. Обе основаны на непосредственном и тщательном углублении в исторические памятники и современные первоисточники, обе проникнуты духом строгой, неподражаемой школы великого учителя - Неволина. Тонкий анализ, самостоятельность мышления, новизна и оригинальность многих выводов крупной важности, знание не только обширное, но и солидное, наконец, безупречная добросовестность - вот те драгоценные качества, которые воочию обнаружились в данных работах еще молодого тогда автора и с полной несомненностью показали уже полвека тому назад, что в лице И.Е. Энгельмана русская наука приобрела образованнейшего, даровитого, замечательного юриста. Спешу добавить, что, впрочем, не одной только науке это сделалось ясным. И судебная практика не замедлила проникнуться тем же сознанием, почувствовать серьезное для нее значение трудов Энгельмана. В особенности это должно сказать о его докторской диссертации, посвященной институту давности по русскому гражданскому праву, - работе, появившейся сначала на немецком языке, год спустя (1868) на русском и потом переизданной снова <через треть столетия> (1901) не без существенных изменений, а в догматической части - не без коренной даже переработки. В этом сочинении Иван Егорович между прочим отвел много места обозрению нашей судебной практики и выяснению своего к ней отношения. Надо ли развивать, насколько это отношение твердое и принципиальное, решительно независимое от каких-либо посторонних и преходящих тенденций? Требуется ли свидетельствовать, что заблуждения нашего Кассационного Сената находили в авторе судью прямолинейного, решительного, сурового? <Неправильный взгляд в кассационном решении> том-то, <неправильность толкования> Сената такая-то, <примеры вредный последствий: толкования в решении 20 января 1893 г.> и т.д. - вот нелицеприятные отзывы, пестрящие уже на страницах оглавления книги <О давности>. Эти отзывы недвусмысленно говорят об оценке, которую покойный признавал для себя обязательным дать известным проявлениям деятельности нашей высшей судебной инстанции в ее <разъяснении точного разума закона>.
Примечания:
[54] Более подробное
изложение своих мыслей по вопросу о давности и ее применении в русском
законодательстве, с указанием и на самые источники, которыми подкрепляются
его доводы, рецензент предполагает поместить в "Юридическом Вестнике"
(издаваемом Московским Юридическим Обществом) как продолжение напечатанной
уже здесь первой статьи его под заглавием "О давности по русскому гражданскому
праву".