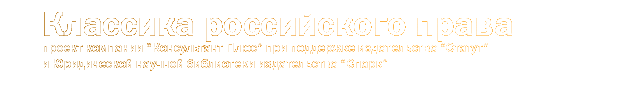Энгельман И.Е. О давности по русскому гражданскому праву: историко-догматическое исследование
И гражданский процесс - это <формальное> гражданское право - привлекал усиленное внимание И.Е. Энгельмана.
В коллективном немецком издании Leske и Loewenfeld'a
В предисловии к этому - по своему замыслу и выполнению пока единственному или почти единственному у нас - труду Иван Егорович высказывает мысли, заслуживающие полного сочувствия по своей правильности, разумности, трезвости.
<Наука: гражданского процесса, - учит он, - разрабатывает юридические понятия и правила по преимуществу с точки зрения их практического (курсив мой) значения, оценивая их так или иначе, смотря по тому, насколько они на самом деле содействуют или препятствуют охране или осуществлению прав. Формальности и правила, не достигающие этой цели, наукой отвергаются: она не признает за ними самостоятельного значения. Поэтому отвлеченно-догматическая схоластика не должна иметь в ней места>. С другой стороны, продолжает автор, наука <чужда буквоедства, сопровождаемого стремлением основывать каждое право, каждое определение суда на специальной статье закона. Юрист должен мыслить логически, соображая частные правила с общими понятиями и принципами, положенными в основание данного процесса, и самостоятельно выводить эти правила, при их отсутствии в законе, на основании общих понятий и принципов>. И далее: <Отсюда же право юриста критиковать действующее право с точки зрения последовательности проведения в жизнь положенных в основу закона общих начал и степени приспособленности устанавливаемых им частных правил к достижению преследуемых им целей>.
Повторяем: верные и счастливые мысли! А между тем может ли осведомленный юрист отрицать, что и по настоящий день как в гражданском процессе, так и в науке его мы еще далеки от осуществления в достаточной мере сейчас указанных правдивых и спасительных положений и требований?
<Наиболее важными произведениями Г.Ф. Шершеневича, - писал я в другом месте (<Право>, 1912), - доставившими ему не только почетную, но и чрезвычайно широкую известность, должны быть признаны - в области гражданского права - так же точно, как в области права торгового - не какие-либо специальные исследования монографического типа, не работы, посвященные детальному выяснению тех или иных частных вопросов и проблем. Нет, это труды иного характера, это целые обзоры преподававшейся Шершеневичем науки, это, во-первых, его <Учебник русского гражданского права> и, во-вторых, <Курс гражданского права>>.
Бесспорно, Габриэль Феликсович немало потрудился в нашей области и монографически. В дополнение к уже известному нам из предыдущего <Авторскому праву> я отмечу, в виде только одного примера, его оригинальную книгу <Наука гражданского права в России>, с ее увлекательно написанным <Заключением> о господствующей у нас розни между теоретической и практической юриспруденцией и причинах такого <в высшей степени печального явления современной русской правовой жизни>.
И все же, несмотря на всю полезность этих работ Шершеневича, наше утверждение о преимущественном значении его общих трудов должно быть оставлено в полной силе. Ибо именно в них, этих произведениях общего, синтетического, сводного содержания, всего полнее и сильнее, всего лучше сказались свойства и особенности дарования Габриэля Феликсовича.
Настольная книга всякого русского цивилиста, <Учебник русского гражданского права> проф. Шершеневича (10-е изд., 1912), как в фокусе отражает все сильные - однако и слабые - стороны творчества автора. Здесь необыкновенно важное сочетание догматической обработки с обсуждением историческим и освещением цивильно-политическим, критическим; законодательства с судебной практикой и научной литературой; сочетание права своего, отечественного, с правом Западной Европы - Франции, Германии, Англии, - и притом такое, что налицо оказывается элемент также сравнительно-правовой. Насколько ценно и важно подобное многообразное и гармоническое объединение названных методов и элементов, не требует, конечно, пояснения. Но, с другой стороны, нельзя не признать и того обстоятельства, что выполнение - правда, более чем трудной - задачи не всегда находится на абсолютной высоте. Юридический анализ, правильность конструкции, точность формулировки, некоторая техника - эта часть дела нередко оставляет желать лучшего. И самые горячие поклонники таланта Габриэля Феликсовича не станут здесь спорить. Но зато как отрадно в том же руководстве постоянное выдвигание автором экономического значения института, его социальной роли, поставление института в прямую и тесную связь с жизнью и ее нуждами. Другое крупное достоинство <Учебника>, к тому же особенно характерное для нашего писателя, - это чрезвычайная ясность и живость мысли - качества, которым отвечает как нельзя лучше удивительная простота и наглядность, порой настоящая художественность согретого чувством изложения.
Наконец, еще одна черта заслуживает, бесспорно, внимания. Мы имеем в виду энергичное, принципиальное и последовательное - как в данном труде, так и в прочих трудах своих - проведение Шершеневичем начала законности. <Только это начало, - говорится в статье <Применение норм права>, - совместимо с идеей правового порядка>. <Пользование противоположным принципом, началом целесообразности, полно общественных опасностей>. Конкретных примеров того, как Габриэль Феликсович понимал и применял означенное начало, можно бы привести множество. Я ограничусь только одним, связанным для меня с личным воспоминанием. Этот пример вместе с тем покажет, с какой неуклонностью - чтобы не сказать педантичностью - Шершеневич был способен держаться проповедуемого им принципа.
Несколько лет тому назад пишущему эти строки, в бытность его профессором Петербургского университета, было поручено Советом и юридическим факультетом университета дать свое заключение по одному вопросу, вставшему в то время пред нами. Вопрос заключался в том, вправе ли университет принять участие в постановке памятника своему знаменитому ученому, покойному Д.И. Менделееву, - точнее, вправе ли университет внести и свою лепту в общую массу пожертвований на эту цель.
<Заключение> распадалось на две части. В первой из них доказывалось, что громкий вопрос о правоспособности юридического лица должен разрешаться в смысле ее ограниченности, в зависимости от преследуемых данным совокупным образованием целей, или, говоря проще, в зависимости от его устава. Во второй после того части, и при этой общей позиции, обосновывалась полная тем не менее возможность и правильность утвердительного ответа на предложенный вопрос о праве университета (<К вопросу о правоспособности юридического лица>).
Габриэль Феликсович протестовал. Он тотчас же написал мне, что с первой частью моей брошюры согласен вполне, но что вывода, сделанного во второй ее части, разделить не может: университет-де не имеет права отчислять суммы на памятник, находящийся вне его стен. В свою очередь, я возражал. Помню, как раз в те дни в Москве происходило открытие памятника Гоголю, причем Петербургский университет счел долгом поручить своему депутату на торжестве открытия возложить венок у подножия памятника. Вот я и спросил Г.Ф.: как же, с его точки зрения, надлежит смотреть на данный расход, произведенный университетом? Неужели и в этом случае признать затрату неправомерной? И снова без замедления пришел ответ: <Остаюсь последовательным и говорю, что университет и на это права не имел>. А затем в <Учебнике> следующего, 8-го издания, в параграфе о юридическом лице, появилась обширная вставка соответственного содержания.
<В лице И.Е. Энгельмана ушел из мира последний могикан русской ветви исторической школы, ведущей свое происхождение от Савиньи и Неволина> (проф. В.М. Нечаев). К этим - без сомнения, справедливым по себе - словам полезно, однако, сделать оговорку. Существенное к ним дополнение должно, думаю, заключаться в указании на те все же серьезные и глубокие отличия, которыми характеризуется покойный русский цивилист при сравнении его с общим направлением исторической школы и ее представителей. Таких отличий, по моему разумению, три.
Это, во-первых, типичное для Энгельмана уделение первостепенной роли хозяйственной стороне дела, это тот его <экономический взгляд>, который рецензентом труда <О приобретении права собственности на землю>, небезызвестным Ф.М. Дмитриевым, даже был назван взглядом <исключительно экономическим> (<Отчет о четвертом присуждении наград графа Уварова>). С другой стороны, не приходится доказывать, что для подернутой дымкой романтизма <исторической> школы правоведения этот взгляд, ставящий во главу угла хозяйство, едва ли характерен.
Другое отличие - критическое к данному правопорядку отношение. Что чрезмерностью критики права не грешили ни великий Савиньи, ни его последователи, опять-таки вряд ли требует длинного пояснения. Воззрение на право как на продукт народного духа, продукт органический и непроизвольный, подобно языку подчиненный внутренней необходимости, - такое воззрение, очевидно, не могло поощрить критического отношения. Совершенно не то наблюдаем мы у Энгельмана. Необыкновенно трезвый ум его в связи, надо думать, с тем фактом неизмеримой важности, что русское право волей судеб всегда оставалось формально независимым от права римского, приводит покойного к оценке закона, к поверке права под углом зрения его пригодности, целесообразности.
И наконец, в непосредственной связи с предыдущим, еще третье. Я разумею
сравнительно-исторический метод, которым Энгельман пользовался и много
и охотно, и сознательно и умело. Но и в нем, этом методе, историческая
школа совсем не повинна, - пожалуй, еще даже менее повинна, чем во всем
прочем. Сравнительное правоведение выдвигается открытыми противниками
Савиньи (Тибо, Ганс), и его, по всей справедливости, следует считать украшением
не исторической, а, обратно, <философской> школы (в смысле, например,
Беккеровском:
Все сейчас подчеркнутые моменты - и сугубое внимание к хозяйственному строю, и критическая, а равно сравнительная трактовка права - все они, бесспорно, сближают двух усопших цивилистов, - как в свою очередь их сближают и энциклопедичность, отмечавшаяся нами раньше, и строгая законность, присущая обоим в абсолютно высокой степени.
Но и в другом еще сходствуют И.Е. Энгельман и Г.Ф. Шершеневич при всей разности происхождения и поколения, темперамента и симпатий, политических убеждений и личной судьбы.
Оба не только писатели-энциклопедисты, но и писатели на редкость продуктивные. В <Биографических словарях профессоров и преподавателей> университетов Дерптского и Казанского можно найти перечни их трудов; эти перечни способны изумить - до того велико количество содержащихся в них названий работ, больших и малых.
Притом в основе продуктивности и Энгельмана, и Шершеневича, несомненно, лежат одни и те же свойства. Помимо трудолюбия, методического и неутомимого, неутомимого до крайних пределов, до последних часов жизни, невзирая на болезнь и страдания, нельзя не видеть еще огромной отзывчивости, психологической прямо потребности откликнуться, реагировать на представшие, назревшие вопросы современности - вопросы науки, вопросы практики.
И эта же отзывчивость едва ли не главнейшая вместе с тем причина того
участия обоих ученых в <общественной> и даже политической жизни страны,
в котором не счел себе вправе отказать: один - России, другой - своей
Духовный образ усопших в глубоко признательной памяти нашей объединяется еще последним.
Как учители, как независимые и правдивые, как искренние друзья юношества Шершеневич и Энгельман точно так же стоят рядом. Своим слушателям они не только сообщали знания - они вселяли в них интерес и любовь к праву и его науке и будили решимость работать; они убеждали в неизмеримой ценности устойчивой правовой культуры и делились с аудиторией бодрящей верой в постепенное совершенствование начал и условий правового существования.
М.Я. Пергамент
Печатается по: Пергамент М.Я.
Памяти двух русских цивилистов. [Б.м.,] 1912.
О ДАВНОСТИ ПО РУССКОМУ ГРАЖДАНСКОМУ ПРАВУ: Историко-догматическое исследование
Предисловие
Издавая через треть столетия после появления первых двух изданий моего сочинения о давности третье, я подверг догматическую его часть переработке. Решение Сената по делу Молошниковой (1872 г. N 792) имеет значение нового закона, установляя порядок приобретения права собственности давностью владения. Вследствие такого существенного изменения, изложение о давности владения по Своду 1857 года отошло к истории. В догматической же части учение о давности владения должно было быть отделено от учения о давности исковой. Кроме того, необходимо было отделение учения о влиянии давности на сервитуты.
На этом основании заново обработаны § 16 и 17 исторической части и § 18-22 и 31 догматической части.
Кроме этих основных изменений, изложение учения о давности значительно дополнено и обогащено на основании обширного материала, заключающегося в кассационных решениях Правительствующего Сената и в юридической литературе с 1868 года.
Юрьев, февраль 1901 г.
Введение
§ 1. I. Учение об общей давности и критика сего учения
Слово давность употребляется обыкновенно для означения того влияния, которое приписывается в законах истечению определенного срока времени по отношению к приобретению или потере какого-либо права. Истечение времени само по себе не способно сделаться основанием юридического учреждения, потому что понятие это не имеет определенного, самостоятельного содержания, на основании которого можно было бы определить образ и степень его значения в области права и таким образом построить цельное юридическое учреждение. В обыденной жизни, впрочем, со словом давность соединяется понятие о влиянии времени на разные юридические учреждения, но при ближайшем рассмотрении этого понятия оно оказывается лишенным практического значения. Не все понятия, вращающиеся в обыденной жизни, могут быть признаваемы действительными в области науки. Впрочем, в теории права давность долгое время принимаема была за цельное самостоятельное учреждение, основанное на общем понятии о значении и действии времени в области права. Следя за возникновением и образованием этого понятия, мы видим, что в новейших системах права оно появилось под влиянием учения римского права. Для правильной оценки этого понятия необходимо поэтому исследовать его значение в римском праве, этом первообразе и основании всякого цивилизованного и развивающегося законодательства. Определив значение этого понятия в римском праве, мы получим верную мерку для теоретической оценки того значения, которое имеет давность в русском праве.
Итак, спрашивается: считается ли давность, по учению римского права, цельным и самостоятельным учреждением права, имеющим в своем основании понятие о всеобъемлющем, всеизменяющем влиянии времени? Еще в первой половине XIX столетия на этот вопрос писатели по римскому праву отвечали утвердительно.
По этой теории давность есть изменение в правах через осуществление или неосуществление их в течение известного времени. Она делится на различные виды, смотря по характеру влияния, оказываемого ею на юридические отношения, по различию времени, необходимого для ее полного действия, и по происхождению ее. Обращая внимание на действие, производимое давностью, различали давность приобретательную (praescriptio acquisitiva) от давности погасительной (praescriptio exstinctiva), смотря по тому, обращалось ли главное внимание на приобретение или на потерю какого-либо права. Этими названиями означались собственно не подразделения давности, но лишь различные стороны одного и того же учреждения, притом стороны, соответствующие друг другу и находящиеся в постоянном взаимодействии между собой. Полагали, что в каждом случае применения давности она для того лица, которое теряет свое право, есть погасительная, а для того, кто приобретает в силу ее положительное право или освобождается от обязательства, она есть приобретательная.
Если приобретается именно то же самое право, которое потеряно другим, то называли давность переводящей (praescriptio translativa), потому что здесь производился только перевод одного и того же права от одного лица на другое. Если же, напротив того, давностью приобреталось право, которое до того времени вовсе не существовало как отдельное право, например сервитуты, то она называлась давностью учреждающей (praescriptio constitutiva). По времени, необходимому для полного осуществления влияния давности, она называлась определенной (praescriptio definita) - если действие ее было в зависимости от точно определенного срока времени, и неопределенной (praescriptio immemorialis, unvordenkliche Zeit) - если такого положительно установленного срока не было, а принадлежность какого-либо права известному лицу основывалась на испоконном, стародавнем обладании им. Наконец, по происхождению того правила, на основании коего истечение известного срока должно было иметь влияние на приобретение или потерю права, различали давность законную (praescriptio legalis) от давности по опре-делению суда (praescriptio judicialis) и произвольной, по одностороннему распоряжению одного лица (например, завещателя) или по условию (praescriptio testamentaria, praescriptio conventionalis). Говорили даже о давности мгновенной (praescriptio momentanea), применяя ее к таким случаям, где, как, например, при необходимой обороне, право на оборонительные действия, нарушающие неприкосновенность чужой личности, существует только в том случае, когда оные последуют непосредственно вслед за нападением. Впрочем, в подобные крайности впадали только немногие последователи этой теории; большинство же отвергало подобное распространение понятия о давности.