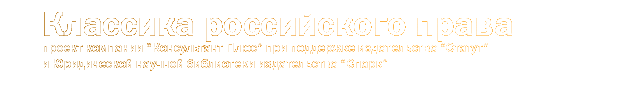Петражицкий Л.И. Права добросовестного владельца на доходы с точек зрения догмы и политики гражданского права
В заключение еще одно замечание. Быть может, нам возразят, что защищаемый нами принцип и римское правило, как явствует из наших же рассуждений, в практическом результате очень близко подходят друг к другу, что обоими достигаются одни и те же цели, только различным путем. Такое возражение было бы неосновательно. Защищаемый нами принцип безусловно обеспечивает в лице добросовестного владельца интересы народного хозяйства, успех же римского принципа зависит от массы непредвидимых случайностей. Допустим, что владелец успел провладеть спорной вещью в течение лишь незначительного срока времени, что запроданные им плоды ко времени предъявления иска еще составляют fructus pendentes, и т. д., и т. д., во всех подобного рода случаях римский принцип не спасет его хозяйства от серьезного урона. С другой стороны, этот же принцип для владельцев ex causa lucrativa создает ничем не оправдываемую привилегию. Таким образом, он во всех отношениях уступает принципу ограничения ответственности добросовестного владельца наличным обогащением.
Покончив с основным тезисом автора, мы остановимся теперь на крупном промахе, допущенном им при методологической формулировке thema probandum. Мы говорим о рассуждениях автора на стр. 118 и сл., озаглавленных: "наша задача и метод решения". В указанном месте автор, желая установить причины, породившие институт приобретения добросовестным владельцем в бесповоротную собственность fructus consumpti, замечает: "чтобы отыскать функцию института, чтобы определить потребность, вызвавшую его к жизни как его оправдание и причина, мы обращаемся к методу определения причин, то есть к индукции. Ближайший материал для применения индуктивного метода, а именно метода различий, дают нам сами римские правила: 1) они относятся к плодам, но не относятся к прочим приращениям; следовательно причины следует искать в отличии плодов от прочих приращений; 2) они относятся к добросовестному владельцу, но не относятся к недобросовестному; следовательно причина коренится и в отличии bona от mala fides; 3) они иначе относятся к fructus extantes, нежели к fructus con-sumpti; следовательно причина коренится и в отличии fructus extantes от consumpti. - Напротив, основания института не следует искать во владении в виде собственности, в давностном владении, в titulus verus или putativus... и т. д., потому что присутствие или отсутствие этих обстоятельств, как мы убедились, остается без влияния на институт. Несмотря на упрощение задачи вследствие устранения этих осложнений негодным материалом, вопрос остается очень сложным ввиду взаимодействия трех указанных факторов. В окончательном результате кроется влияние трех причин. Задача состоит в определении того участия, которое следует приписать в институте каждому из трех факторов. Для этой цели мы должны привлечь такие явления гражданского права, в которых названные факторы в других комбинациях и сочетаниях проявляют различное или аналогичное действие" (стр. 118-119).
Все это рассуждение производит очень странное впечатление. Прежде всего, оно грешит явным смешением внешних и внутренних признаков, характеризующих исследуемый институт, с причинами, вызвавшими этот институт к жизни. В самом деле, откуда автор взял, что причин института именно три, а не больше, и что их следует искать: 1) в отличии плодов от прочих приращений; 2) в отличии bona от mala fides, и 3) в отличии fructus extantes от fructus consumpti? Этот материал, говорит он, доставили ему сами римские правила. Выходит, значит, что в правиле bonae fidei possessor fructus consumptos suоs facit причинами suos facere или lucrari являются: 1) bona fides; 2) fructus и 3) consumptio. Это идеально просто, но абсолютно неверно. Bona fides, fruсtus и consumptio, конечно, не суть причины или факторы нашего института, а представляют собою только: первый момент - внутренний, а остальные два - внешние признаки или критерии, при наличности которых признается существование того правоотношения, которое составляет сущность данного института. Римское правило говорит нам: если владелец извлек какие-нибудь выгоды из спорной вещи, то он сохраняет их за собою, не будучи обязан возместить их стоимость: 1) раз он действовал bona fide; 2) раз эти выгоды заключаются в извлечении плодов, и 3) раз эти плоды были консумированы. Другими словами, указанные моменты суть лишь условия применения данного правила на практике, а не причины, вызвавшие соответствующий институт. Отсюда ясно, что правильная формулировка того вопроса, который желает разрешить автор, должна гласить: мы знаем, что наш институт характеризуется тремя критериями: bona fides, fructus и consumptio. Надлежит указать причины, по которым именно эти моменты, а не какие-либо иные были выдвинуты на первый план. При такой постановке вопроса само собою отпадает, конечно, и произвольное ограничение причин института тремя. Но вместе с тем исчезает и кажущаяся почва для применения индуктивного метода различий. Непонятно, как автор мог вообще заговорить об этом методе и допустить мысль о применимости его в области исследования социальных явлений. "Правило, - говорит Милль, - которое выражает руководящее начало метода разницы, может быть выражено так: ...если случай, в котором исследуемое явление наступает, и случай, в котором оно не наступает, совпадают во всех обстоятельствах, кроме одного, встречающегося только в первом случае, то обыкновенно составляющее единственную разницу двух случаев есть действие, или причина, или необходимая часть причины явления". Дальше Милль поясняет, что "метод разницы есть преимущественно метод искусственного опыта (эксперимента)", так как "два случая, которые предстоит сравнить, должны быть совершенно сходны во всех обстоятельствах, за исключением того, которое мы пытаемся исследовать", природа же, благодаря сложности ее явлений, "обыкновенно не представляет нам опыта того рода, какой требуется методом разницы" (Милль, Логика, пер. Лаврова, т. I, стр. 447, 448). - Достаточно принять во внимание эти соображения и вспомнить, что социальные явления принадлежат к числу самых сложных явлений, не допускающих притом применения экспериментального анализа, чтобы уже a priori признать мысль автора о возможности применения к ним метода разницы крупной методологической ошибкой.
Этим мы, конечно, не отрицаем пользы делаемых автором сопоставлений между исследуемым им институтом и другими, "в которых названные факторы (то есть bona fides, fructus, consumptio) в других комбинациях и сочетаниях проявляют различное или аналогичное действие. Но только такие сравнительные сопоставления ничего общего с индуктивным методом различия не имеют. Если бы на этот счет могло существовать еще какое-нибудь сомнение, то достаточно взглянуть на те результаты, которых автор достигает своими сопоставлениями: они представляют полную reductio ad absurdum его взгляда. В самом деле, автор (на стр. 119) отмечает, что правило о том, что одни fructus extantes подлежат выдаче, применяется не только к добросовестному владельцу, но и к дарителю, который после перенесения (per mancipationem) права собственности удерживает в своем владении подаренный участок (l. 41 § 1 D. de re jud. 42,1), а также к ответчику по закладному иску (l. 16 § 4 D. de pign. 20,1), несмотря на то, что ни в том, ни в другом случае bona fides не играет никакой роли, что автор сам и отмечает (стр. 149, 155). Какой же из этого, с точки зрения самого автора, вытекает вывод? Очевидно тот, что bona fides в выработке правила об удержании fructus consumpti не играет никакой роли. Действительно, раз это правило применяется и в таких случаях, где имеется налицо bona fides, и в таких, где bona fides отсутствует, то значит, по правилам индуктивного метода, bona fides представляет собою момент безразличный, то есть никакой связи между этим моментом и удержанием fructus cousumpti ни в каком случае не существует. Но такой вывод в применении к bonae fidei possessio составляет явную нелепость и опровергается всем тем, что сам автор в других местах своей книги говорит о важном значении bona fides для уразумения нашего института. В чем же тут дело? Ни в чем ином, как в принципиально неправильной точке зрения автора. Раз мы уяснили себе, что bona fides и остальные упоминаемые автором моменты не суть причины suos facere, и что индуктивный метод различий в данном случае неприменим, то все затруднения отпадают.
Действительно, с нашей точки зрения нет ничего удивительного в том, что одно и то же право удержания консумированных плодов признается и за добросовестным владельцем, и за донатаром, и за ответчиком по закладному иску, хотя соответствующие институты в остальном (то есть кроме моментов fructus и consumptio) характеризуются различными признаками: ибо раз причины, порождающие те или иные институты права, не тождественны с внешними и внутренними признаками, характеризующими эти институты, то тем самым указанный нами факт теряет всю свою загадочность: мало ли какие соображения могли привести к признанию желательности однородного разрешения вопроса о распределении плодов в применении к различным институтам.
Подводя итоги сказанному, мы приходим к заключению, что "метод решения" проблемы, предлагаемый автором, абсолютно не выдерживает критики, и что г. Петражицкий совершенно напрасно извиняется за свой якобы "методологический педантизм" (стр. 119 прим.). Мы, к сожалению, должны констатировать, что он обнаружил в данном случае не методологический педантизм, а методологический абсентеизм.
Нам остается сделать еще два замечания по поводу романистической части исследования автора. Одно касается его утверждения, будто "ни римские юристы (их теоретические воззрения и изречения, что менее важно), ни римское положительное право не находят в случае malae fidei possessio ничего безнравственного, достойного порицания или наказания" (стр. 122). Мы полагаем, что это утверждение не согласно с источниками. Последние явно свидетельствуют о том, что ни римские юристы, ни римское положительное право не уяснили себе, что простая scientia, простая возможность предвиденья известных обстоятельств как таковая вовсе не содержит в себе ничего нравственно предосудительного, а напротив, постоянно смешивали эти два момента. В пользу этого говорит, во-первых, частое употребление источниками термина "praedo" для обозначения malae fidei possessor (ср., например, цитируемые самим автором на стр. 127 и 128 l. 31 § 3,4 D. de her. pet. 5,3 и l. 40 pr. eod.). Во-вторых, следует указать на то обстоятельство, что со времени литисконтестации malae fidei possessor отвечает даже за casus. Сам автор по поводу этого замечает, что указанное правило "с точки зрения цивильной политики не заслуживает одобрения. Если кто-либо сомневается в своем праве, то начало процесса его еще не всегда убедит, что право принадлежит истцу. В таких случаях создаваемый строгой ответственностью в случае проигрыша процесса metus periculi производит вредное влияние" (стр. 130). В-третьих, нельзя не отметить и того, что, обязывая недобросовестного владельца к возврату всех fructus percepti и percipiendi, римское право не устанавливает никакого льготного срока, в течение которого владелец постепенно мог бы собрать сумму, потребную для возмещения потребленных плодов и fructus percipiendi. Между тем сам автор по поводу аналогичного случая, именно по поводу возвращения приданого мужем, отмечает желательность и целесообразность подобной рассрочки платежа (стр. 156). Наконец, в-четвертых, не мешает вспомнить, что со времени литисконтестации malae fidei posses-sor обязан возместить также плоды, которых он сам даже при всем своем желании не мог извлечь (не обладая, например, достаточным оборотным капиталом или необходимыми знаниями), раз собственник был бы в состоянии это сделать (ср. l. 62 § 1 D. de rei vind. 6,1, l. 4 Cod. unde vi 8,4). - Все эти правила необъяснимы с точки зрения автора, но становятся вполне понятными, раз мы признаем, что римские юристы столь же основательно смешивали mala fides с нечестностью, как это практикуется и теперь. Но если это так, то вместе с тем нет никакого основания думать, что они не смешивали bona fides с честностью. Правда, в конечном результате это довольно безразлично, ибо хозяйственное значение bona fides вовсе не изменяется от того, смешивали ли или не смешивали римские юристы это понятие с честностью. Но именно потому-то автору и не следовало выставлять то сомнительное положение, которое мы только что разобрали. Упустив это из виду, он несомненно допустил методологическую ошибку. Быть может, он нам возразит, что нельзя же было не отметить того, что хозяйственное значение bona fides было верно схвачено римскими юристами, что и отразилось в их решениях. Но ведь автор в других местах своей книги сам признает, что римские юристы нередко приходили к правильным конкретным решениям, несмотря на неудовлетворительность общих их теоретических воззрений. Все говорит в пользу того, что так было и в данном случае. А потому и наш упрек остается в полной силе: автор в данном случае оставляет в тени то, что единственно имеет значение, и вместо этого останавливается на пунктах, которые, если бы даже они были верно подмечены, непосредственно не идут к делу.
Второе наше замечание касается утверждения автора, что истец по закладному иску "получает от третьего владельца залога (путем Serviana=rei vindicatio utilis) все то, что получил бы от него собственник-залогодатель путем vindicatio directa, и в частности он может получить большую сумму доходов, хотя ipsa res sufficit для погашения его требования" (стр. 77). Автор доказывает, что: 1) это положение согласно с источниками, и 2) гражданско-политически в высшей степени рационально, тогда как господствующий взгляд, согласно которому третий владелец не обязан выдавать плодов, si ipsa res sufficit, противоречит источникам и крайне несообразен с гражданско-политической точки зрения. Все это очень сильно сказано, но совершенно неверно.
Рассмотрим сначала цивильно-политическую сторону вопроса. Автор в этом отношении исходит из совершенно ложного предположения, будто ответчик, possessor по закладному иску, есть possessor не только по отношению к кредитору по залогу, но непременно вместе с тем и possessor по отношению к залогодателю. Между тем он по отношению к последнему в громадном большинстве случаев не есть вовсе possessor, а dominus! В самом деле, одна из характерных особенностей римского закладного права заключалась именно в том, что должник-закладчик сохранял право распоряжаться заложенной вещью и, в частности, переуступать ее третьим лицам, каковые в таком случае, разумеется, приобретали ее не во владение, а на праве собственности (l. 12 Cod. de distract. pign. 8, 27). Насколько широко пользовались на практике этим правом, лучше всего явствует из того обстоятельства, что его пришлось ограничить в применении к специально ипотецированным движимостям: продажа таковых без согласия кредитора по залогу была квалифицирована как furtum possessionis (l. 19 § 6 D. de furtis 47, 2); тем не менее продажа и в таком случае не считалась недействительной (ср. Dernburg, Pandek-ten, изд. 5-е, т. I, стр. 683, прим. 5). Но если это так, то ни о какой виндикации должника-закладчика против третьего приобретателя при нормальных условиях речи быть не может. О таковой можно говорить лишь в применении к тем сравнительно редким случаям, когда третье лицо приобрело заложенную вещь во владение помимо воли должника-собственника. Если не считать подобных исключительных случаев, то в остальном положение дела как раз обратное тому, которое рисует автор: не должник-закладчик имеет право иска против третьего приобретателя, а напротив, третий приобретатель, bona fide приобретший у него вещь, не зная о залоге ее, может предъявить к нему эвикционный иск об убытках по случаю отнятия вещи кредитором по залогу. Если таков нормальный "средний случай", то нечего и доказывать, сколь нецелесообразно с цивильно-политической точки зрения было бы установление того правила, которое автор якобы открыл в римских источниках: в самом деле, оно означало бы, что сначала плоды (do litis contestatio fructus extantes, со времени ее сверх того fructus percepti и percipiendi) выдаются добросовестным третьим приобретателем кредитору по залогу, последний засим, si res sufficit, возвращает их должнику-залогодателю, а тот в свою очередь, когда, третий приобретатель предъявляет к нему иск об эвикции, обязывается вернуть их или стоимость их этому самому третьему приобретателю!
Ввиду вышеизложенного мы уже a priori можем решить, что такого ни с чем не сообразного правила римские юристы не могли установить. Нам предстоит теперь опровергнуть автора a posteriori. С этой целью мы обратимся к его догматической аргументации.
Г. Петражицкий ссылается прежде всего на l. 16 D. de servit. 8, 1 и l. 18 D. de pign. 20. 1. Первый фрагмент гласит: ei qui pignori fundum accepit, non est iniquum utilem petitionem servitutis dari, sicuti ipsius fundi utilis petito dabitur. Во втором говорится: si ab eo, qui Publiciana uti potuit. quia dominium non habuit, pignori accepi, sic tuetur me per Servianam praetor, quemadmodum debitorem per Publicianam. Итак, оба фрагмента дают только общую характеристику различных функций actio hypothe-caria. Из них вытекает только тот вывод, что этот иск заменяет для кредитора по залогу одновременно и rei vindicatio, и a. confessoria и a. Pub-liciana. Ничего другого из этих фрагментов при всем желании выжать нельзя. В частности, остается открытым вопрос о том, не существуют ли наряду с аналогией в общем отдельные пункты различия. Автор и не придает цитированным фрагментам решающего значения. В дополнение к ним он указывает еще на l. 21 § 3 D. de pign. 20, 1. Этот фрагмент гласит: Si res pignerata non restituatur, lis adversus possessorem erit aes-timanda, sed utique aliter adversus ipsum debitorem, aliter adversus quemvis possessorem: nam adversus debitorem non pluris. quam quanti debet. quia non pluris interest, adversus ceteros possessores etiam pluris. et quod amp-lius debito consecutus creditor juerit. restituere debet debitori pigneraticia actione. На первый взгляд приведенное изречение Ульпиана как будто действительно говорит в пользу автора. Но именно только на первый взгляд. Для надлежащей оценки его необходимо вспомнить, что litis aestimatio приравнивается римскими юристами к купле-продаже (ср. l. 1, 3D. pro emtore 41, 4; l. 46, 47 D. de r. v. 6. 1). С этой точки зрения вполне естественно, что кредитор, удержав из полученной суммы то, что необходимо для покрытия его обязательственного требования, возвращает должнику свободный излишек: ведь к этому он был бы обязан и в том случае, если бы третий владелец вернул ему самую вещь и он засим продал ее постороннему. Это одно. С другой стороны, нет основания церемониться в данном случае с третьим владельцем: ведь litis aestima-tio предполагает в лице последнего либо contumacia, неповиновение судейскому arbitrium de restituendo, либо dolo malo desinere possidere, либо liti sese offerre. Наконец, - и это самое пикантное, - данное правило потому уже не могло быть продиктовано теми соображениями, на которые ссылается автор на стр. 77 ("залогоприниматель мог бы путем предъявления иска и получения владения вещью лишить залогодателя-собственника возможности осуществления всех тех прав против владельца его вещи, которые осуществляются только путем vindicatio"), - что в данном случае должник-залогодатель, если только он вообще имел виндикацию против владельца, не терял вовсе права на предъявление ее, так как ответчик оставался владельцем, а судебное решение, состоявшееся по спору между кредитором по залогу и владельцем, конечно, имело силу только inter partes.