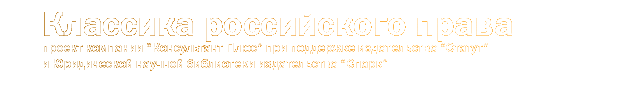Петражицкий Л.И. Права добросовестного владельца на доходы с точек зрения догмы и политики гражданского права
Итак, отождествление "полученного владельцем дохода" с fructus separati (или percepti) несостоятельно с точки зрения как производства, так и распределения.
Мы бы с точки зрения экономической теории ограничились этими замечаниями, если бы говорили о натуральном хозяйстве, не знающем менового денежного оборота, работающем не для сбыта, а для собственных потребностей. Но в эпоху денежно-менового хозяйства для "получения дохода" необходимым условием является сбыт. Хотя бы производство в тесном смысле и то распределение, о котором мы говорили, были вполне окончены, предприниматель еще не "получил" дохода и даже не знает, какой доход он от своего предприятия, например с имения, получит, пока он не совершил успешно последней стадии своей деятельности, направленной на получение дохода, а именно не сбыл достаточно выгодно своих продуктов, не отчудил их в обмен на деньги. В случае падения цен он может не получить никакого дохода с имения, несмотря на весьма успешное завершение производства в тесном смысле.
Отсюда видно, что, с точки зрения предпринимателя, производящего исключительно для сбыта, отнюдь не fructus extantes и подавно не fructus separati представляются "полученным уже доходом", а исключительно только "fructus consumpti".
Вместе с тем из изложенного выше видно, что на различных ступенях экономического развития понятие дохода должно менять свое содержание. Для древнего pater familias в эпоху, когда он производил без помощи наемного труда и занятых капиталов и притом исключительно для собственных потребностей, а не для сбыта, указанные выше точки зрения социального распределения и сбыта не имели значения. "Полученным" уже и обеспеченным потребительным фондом, источником пропитания семьи были хлеб, виноград etc. Теперь таковым являются для сельскохозяйственных предприятий преимущественно, а для большинства других предприятий исключительно деньги. Древний домохозяин радовался и устраивал пир богам и друзьям, когда он собирал дары Цереры; теперешние предприниматели знают, что после сбора плодов еще рано ликовать; они продолжают волноваться, следят за рынком, за биржевыми бюллетенями и т. п. и успокаиваются лишь после сбыта. Прежде доходы с житейской точки зрения считались "уже полученными", когда они уже не были подвержены атмосферическим и прочим опасностям на полях, когда они уже находились под кровом хозяйственных построек, теперь они получены лишь тогда, когда исчезли из хоз. складов и попали в виде pecunia в кассу.
Указанные перемены экономических явлений, естественно, отражаются и на развитии народного и юридического языка, в частности на истории тех слов и понятий, которые служат для обозначения и определения того, чтó добрый хозяин может считать своим потребительным фондом до следующих сборов. Так, например, история слов и понятий fructus и reditus представляет, так сказать, маленькое зерцало экономического развития римского народа с древнейших времен до позднейшей императорской эпохи (ср. L. v. Е. I, § 16, 17). Здесь небезынтересно отметить лишь следующее явление. Слово fructus (потребительный фонд доброго хозяина, hominis frugi, frugalis) в эпоху примитивного патриархального натурального хозяйства означало dona Сereris in natura, как предметы питания в тесном смысле. Относились сюда fruc(g)tus в тесном, первоначальном и древнейшем смысле, т. е. древесные плоды, ягоды etc., fru(g)menta, хлебные злаки, и fruges, стручковые растения и проч. Не относились сюда в эту эпоху деревья, металлы, камни и т. п. предметы, quibus homines non vescantur, non fruuntur, т. е. предметы, не употребляемые в пищу. С развитием денежного, менового хозяйства и деревья, камни, металлы и т. п. включаются в понятие fructus, ибо в меновом хозяйстве и добытые металлы и т. п. питают домохозяина и его семью.
Вместе с тем развитие денежного хозяйства раздваивает значение слова fructus и делает его двусмысленным. С одной стороны, слово fructus означает натуральные продукты, с другой стороны - доход в денежно-хозяйственном смысле. Впоследствии на помощь и на смену двусмысленного слова fructus в разговорном обиходе латинского языка появилось слово reditus, свободное от представления питания и означающее периодически возвращающуюся (redire) денежную прибыль. Цицерон в своих сочинениях еще не употребляет этого слова, Юлиан уже знает его; в дигестах преобладает слово fructus, в кодексе - reditus, причем здесь встречается и выражение reditus purus (чистый доход). Новые языки реципировали слово fructus (fruits, фрукты и т. п.) в его самом тесном и примитивном смысле для обозначения древесных плодов, для обозначения же дохода они вполне рационально реципировали слово reditus (revenue, rendita, рента и т. п.). Напротив, новая, и в частности романистическая, юриспруденция обосновала свою терминологию учения о доходах на почве более архаического смысла выражения fructus. От этого самого по себе неудачного выбора большой беды не было бы, если бы романисты сознательно отнеслись к экономическому смыслу и порядку развития понятия fructus. В Сorpus iuris в этом отношении заключается как бы несколько геологических пластов, отражение нескольких эпох экономического и юридического развития, и сообразно с этим слово fructus имеет там несколько исторически последовательных значений (четыре - в области валового дохода, ср. L. v. E. I, стр. 238, и пятое, чаще всего встречающееся значение есть "чистый доход"). Новым романистам следовало бы отбросить устаревшие экономически и юридически значения и остановиться на последнем результате развития (дополнив его в некоторых направлениях ввиду современного развития фабричной, заводской etc. промышленности, не предусмотренной римскими юристами, ср. L. v. E. II, стр. 390 и сл.). Вместо этого романистическая юриспруденция реципировала такое понятие fructus, которое уже для права республиканской, а тем более императорской эпохи Рима было лишь филологическим переживанием и юридическим анахронизмом. При этом она еще смешала предметы питания "с органическими произведениями". Этим путем, между прочим, получилось и то несколько странное явление, что суррогатом необходимого для гражданского права современного понятия дохода в новейшем уложении (германском) является понятие, соответствующее весьма примитивной ступени экономического развития римского народа, и притом не в разумной и правильной копии, а в карикатуре, лишенной всякого, даже архаического смысла. Не менее характерно и то явление, что и в русской цивилистической литературе, и в частности в учебниках гражданского права, мы находим искаженное эхо древнейшего периода римского экономического и юридического быта, несмотря на то, что 1 ч. Х т. вовсе не дает никакого повода для внесения в догматику этих допотопных изделий, а, напротив, дает полную возможность развить рациональную и современную теорию "fructus".
После этих предварительных замечаний возвращаемся к статьям об ответственности владельцев и к вопросу, чтό представлял себе законодатель, употребляя выражение "полученные уже доходы".
А priori нельзя предполагать, чтобы представления, понятия и речь законодателя соответствовали исключительно натуральному типу хозяйства. Последнее было бы возможно только в том случае, если бы статьи, определяющие ответственность владельцев чужого имущества, были взяты из какого-либо древнего законодательного источника или были написаны под влиянием новой гражданско-правовой теории плодов, соответствующей примитивной стадии развития римского права и римского народного хозяйства. Ни того, ни другого о ст. 609 и сл. 1 ч. Х т. сказать нельзя. Это закон реформирующий и прогрессивный, изданный для замены прежних неудовлетворительных и неполных статей Свода (в этом убеждает его сличение с прежним правом) и составленный без познания добра и зла романистической юриспруденции и не путем заимствования из учебников римского права (в этом убеждает вся структура и способ изложения закона). Представления и "терминология" законодателя, следует предполагать, определились современными ему хозяйственными воззрениями. Но с другой стороны, следует принять во внимание, что эти "современные" воззрения не могли вполне совпадать с теперешними взглядами. 609-я и следующие статьи были составлены в 1851 г., т. е. до крестьянской реформы, и относились к помещикам, владеющим крепостными крестьянами (ср. зак. 1851 г.; впрочем, это очевидно отчасти и из теперешних статей Свода, недостаточно очищенных от пятен крепостного права после реформы). Но крепостное право придает хозяйству в значительной степени натурально-хозяйст-венный тип, крестьянская реформа представляет весьма крупный шаг на пути к типу денежного хозяйства, и наши теперешние воззрения и разговорный язык должны обладать в гораздо большей степени денежно-хозяйственным характером, нежели речь и понятия законодателя 1851 г. Последнему вероятнее всего приписать представления и понятия, так сказать, среднего, колеблющегося типа. В первом томе учения о доходах мы показали посредством изучения источников римского права, что для правильного понимания слова "fructus" в Corpus iuris недостаточно грамматической interpretatio, а требуется логическое толкование, зависящее от разных других данных исследуемых фрагментов, и что во всяком случае то грамматическое толкование fructus, к которому привыкли новые романисты, существенно затемняет и искажает смысл источников. Теперь мы на основании приведенных общих соображений утверждаем, что и слово доход в статьях 1 ч. Х т. нельзя a priori понимать ни в смысле денежного, ни в смысле натурального дохода, а надо, как и при исследовании Corpus iuris, путем логического толкования в каждом отдельном случае определить, означает ли оно fructus в смысле reditus, в смысле pecunia, или же fructus в смысле dona Cereris и т. п.
Обратившись к этому осторожному и никакой предвзятой тенденции не привносящему приему решения нашего вопроса, мы легко констатируем, что в ст. 626 нет никакого противоречия.
В самом деле, из статей 1 ч. Х т. об ответственности владельца прежде всего несомненно следует, что авторы этих законов, употребляя выражения "доходы", "полученные доходы" и т. п., не стоят исключительно на той точке зрения, которую мы приписали примитивной эпохе народного хозяйства и новому романизму. Напротив, как в дигестах слово fructus, так и в статьях 1 ч. Х т. слово "доход" употребляются преимущественно в смысле денежного дохода. При этом мы ограничиваемся статьями, происходящими от закона 1851 г. Вторая из этих статей (610), кстати, употребляет выражение "полученные доходы", а именно она предписывает, что недобросовестный владелец обязан "возвратить все доходы, им с того имущества полученные со времени:" etc. Смысл этого положения изъясняется и определяет ст. 620, начинающаяся словами:
"Под словом доход, который недобросовестный владелец обязан возвратить законному владельцу, разумеется доход чистый, т. е. остающийся, за исключением употребляемых на управление имением и других, подробно в нижеследующей (622) статье означенных расходов".
Очевидно, что здесь речь идет о доходе в денежно-хозяйственном смысле: вычитать ("за исключением") можно только однородные величины; из шерсти овец, например, нельзя вычесть рабочей силы пастуха или жалованья и т. п. Подобные же выражения повторяются в ст. 622 (из доходов, которые владелец: обязан возвратить, исключаются расходы:), 623 (исключаются также из доходов: все денежные суммы:); характерно также постановление ст. 637 о добросовестном владельце, предписывающей оставление в имении "необходимого количества" "из наличных запасов" и оканчивающейся словами: "Следующая за сие по оценке сумма вычитается из суммы доходов, которые он обязан возвратить законному владельцу". Это постановление неточно, потому что предполагаемое здесь уменьшаемое по закону не может существовать, но для нас интересно, что закон здесь говорит об оставлении известного количества не "наличных доходов", а "наличных запасов" и противополагает эти запасы доходам. Точно так же не может быть сомнения в денежно-хозяйственном смысле слова "доход" в ст. 634 (о добросовестном владельце), где находим замечание: "В тех имениях, в коих рубка леса на продажу дров составляет главнейший или же исключительный источник дохода:" В перечислении, следующем в ст. 620 за общим постановлением о возвращении "чистого дохода", остающегося за исключением расходов, преобладают указания на разные денежные суммы и "прибыли" ("прибыль, полученная от принадлежащих к имению рыбных ловель", "прибыли, полученные от шерсти овец, от молока, масла и т. п."; здесь шерсть и т. п. является не "прибылью" и "доходом", а источником дохода); но рядом с такими постановлениями денежного характера находим и указания на "самые сии произведения" (вырученное продажею хлеба, сена и других произведений земли, или же фабрик и других какого-либо рода заведений, или же самые сии произведения, если они не проданы, или в случае, когда они переданы кому-либо без продажи или иным образом употреблены, то следующие за них деньги по оценке", ср. eod., п. 3). По смыслу ст. 620, изъясняющей, что под доходом, подлежащим возвращению, следует разуметь чистый доход, "самые сии произведения" не могут являться одним из видов дохода (ибо они "чистым доходом" считаться не могут), а образуют лишь средство и modus исполнения обязанности возврата чистого дохода, сумма которого должна быть соответственно уменьшена, аналогично, как по ст. 437 о добросовестном владельце последний оставляет в имении известные "запасы", цена которых должна быть вычтена "из суммы доходов, которые он обязан возвратить законному владельцу".
Во всяком случае, приступая к толкованию ст. 626 после рассмотрения смысла выражений "доход", "полученные доходы" и т. п., в прочих статьях, возлагающих на владельцев обязанность возвращать доходы или освобождающих их (в случае добросовестности) от такой обязанности, мы никоим образом не могли бы при чтении начального общего постановления (добросовестный владелец имущества "не обязан возвращать доходов, с оного уже полученных") без дальнейших рассуждений предположить или даже категорически утверждать, что под выражением "полученные доходы" следует разуметь отделенные от главной вещи плоды и что закон впадает в противоречие с собою, если он дальше говорит о продаже и т. п.[290] Напротив, по общим началам interpretatio мы бы при отсутствии особых специальных оснований в пользу иного толкования должны были бы приписать выражению "полученные доходы" в ст. 626 тот же смысл, какой ему закон приписывает в других постановлениях, т. е. денежно-хозяйственный смысл.
Таким образом, при отсутствии второй половины 626-й ст. мы к "полученным уже доходам" никоим образом не отнесли бы плодов с момента их отделения и даже с момента их perfecta collectio, с момента их уборки с полей под защиту хоз. кровель и даже с момента окончания производства и готовности продуктов к потреблению или сбыту, а, напротив, под свободою владельца от возвращения "полученных уже доходов" мы бы разумели исключительно отрицание обязанности возвращать денежную прибыль, полученную с имения. Мы бы извлекли из ст. 626 вообще относительно доходов только то, чтó ст. 634 предусматривает относительно одного из частных видов продуктов, постановляя, что владелец, продавший дрова, не обязан к возвращению, поскольку он не вышел из пределов извлечения дохода.
К такому же результату мы бы пришли и при наличности второй половины 626-й ст., если бы последовали тому приему решения коллизии общих regulae с частными нормами, которому следуют прочие толкователи ст. 626. Мы бы тогда указали, что постановление второй половины 626-й ст. о последствиях продажи приплода животных, шерсти и т. п. (точно так же, как и соответственное правило о лесе в ст. 634) правильно, но является излишним, ибо оно уже заключено в общей regula, постановление же об убранных с полей и лугов хлебе, сене и т. п. является непоследовательным и неправильным "примером", который следует игнорировать etc. Посредством толкования по аналогии или даже а fortiori мы бы далее освободили владельца от возмещения ценности плодов, им безмездно отчужденных или употребленных для собственного пропитания, вообще от praestatio fructuum consumptorum. Напротив, все наличные плоды (fructus extantes) мы бы на основании общего принципа о праве собственника главной вещи на все ее произведения etc. приписали собственнику, отличая их от "полученных уже доходов". К fructus consumpti мы бы, впрочем, не отнесли переработанных ископаемых и т. п., ибо нельзя, например, говорить о "полученном уже доходе", когда глина переделана в кирпичи, но для них еще не найдено и, может быть, не найдется сбыта, так что действительное получение дохода ожидается лишь в будущем при условии успеха сбыта.
Такое толкование, по нашему убеждению, было бы более корректным, нежели господствующая теория, и менее бы грешило против юр. методологии, но и оно, как видно из вышеизложенного, заключало бы в себе две ошибки. Первая ошибка состояла бы в уничтожении частных позитивных норм на основании общей regula; вторая ошибка состояла бы в том, что мы бы неправильно приписали выражению "полученные доходы" исключительно денежно-хозяйственный смысл (в pendant к еще более неправильному противоположному господствующему воззрению), несмотря на постановления ст. 626, обнаруживающей двусмысленность этого выражения в устах составителей закона 1851 г., двусмысленность, аналогичную той, какая замечается по отношению к fructus percepti, между прочим, и в римских источниках, и вполне естественную и понятную с экономической и филологической точек зрения.
Примечания:
[290] Ср. категорическую и весьма
отрицательную критику статей Свода об ответственности владельцев К. Змирлова
в его статье «О недостатках наших гражданских законов (5 гл. 2 раз. 2
кн. 1 ч. Х т.)», помещенной в Журн. гражд. и уг. пр., 1883, кн. 7. Здесь
по поводу правил об ответственности добросовестного владельца читаем: