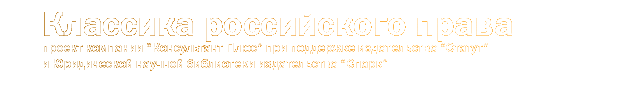Петражицкий Л.И. Права добросовестного владельца на доходы с точек зрения догмы и политики гражданского права
Конечно, в случае потребления в собственном смысле дело ограничивается прекращением права собственности для собственника имения. На выпитое владельцем молоко ни собственник, ни владелец, ни кто-либо третий не могут иметь права собственности и в нем не нуждаются. Не может быть, конечно, разговора о праве собственности на так называемые гражданские плоды, поскольку они состоят в предметах, к которым вещное право собственности не может относиться, например в требованиях арендной, наемной платы. Что же касается тех денежных знаков или иных вещественных благ, которые на основании таких требований передаются владельцу, то здесь право собственности приобретается по общим, не относящимся к нашему институту правилам[286]. Одним словом, рассматриваемый нами вещный вопрос относится лишь к продуктам, извлекаемым путем отделения от капитальной вещи, и подлежит решению лишь постольку, поскольку он не упраздняется выходом этих продуктов из ряда res in commercio. В этих пределах мы, обобщая сказанное выше, должны его решить так:
право собственности на плоды переходит на владельца в момент, когда они превращаются из fructus extantes в fructus consumpti[287] или (ср. выше, стр. 398) fr. absentes (переработка, отчуждение, перевод).
Соответственно изъятию, установленному нами выше из правила b. f. p. fructus consumptos suos facit, и здесь следует упомянуть, что в одном случае достаточно для приобретения собственности perfecta collectio (уборки с места отделения, но не separatio или perceptio).
Таким образом, тем юридическим фактом, который играет существенную роль в нашем институте, как основание для отступления от обычного принципа распределения современного частнохозяйственного строя (собственнику капитала - доход от него), является не только в области обязательственного, но и в области вещного права никоим образом не separatio и не perceptio fructuum, а по общему правилу их consumptio. И вещную связь между собственником и продуктами его капитала прерывает не separatio и не perceptio, а лишь consumptio, а в одном случае - perfecta collectio.
Если мы этот основной и общий результат нашей юридической переработки казуистических правил 1 ч. Х т. сопоставим теперь с общим изречением ст. 626, которая предоставляет добросовестному владельцу "доходы, с оного уже полученные", то, если под выражением "полученные доходы" разуметь fructus separati или percepti в техническом смысле (отделенные от капитальной вещи или попавшие во владение добросовестному владельцу), в таком случае оказалось бы, что наше исследование привело к прямому и абсолютному отрицанию смысла этого общего изречения ст. 626. Общее начальное положение ст. 626 объявляет, по-видимому, что решающим моментом для lucrum добросовестного владельца является появление плодов как самостоятельных объектов в имении или в сфере possessio добросовестного владельца, а мы, наоборот, утверждаем, что не появление, а исчезновение продуктов в первоначальном их виде из имения или владения производит это последствие. Мы таким образом, по-видимому, исходя из отдельных казуистических решений, уничтожили общее правило закона.
Если это противоречие, которое prima facie кажется ясным и для всякого очевидным, действительно существует, то каков должен быть выход из него? На каком из двух противоположных или во всяком случае исключающих друг друга начал мы должны остановиться? Из нашего цивильно-политического исследования вытекает, несомненно, предпочтительность принципа consumptio, а равно несостоятельность принципа separatio или perceptio, и если бы здесь дело шло о советах и указаниях по адресу законодателя, то для нас не могло бы существовать никакого сомнения, что следует для окончательного материального распределения плодов в нашем институте остановиться на различии fructus extantes и consumpti, а не iam percepti и nondum percepti. Но мы кроме цивильно-политической оценки постановлений 1 ч. Х т. предприняли и исследование их с точки зрения юриспруденции, науки позитивного права, и здесь мы ищем решения сказанного противоречия с юридической точки зрения. Было бы искажением юридического метода (юридической "логики") и смешением задач и существа юриспруденции и политики права, если бы мы "юридические" вопросы решали просто по "правно-политическим" соображениям. По этому поводу нельзя не заметить, что такое прегрешение по отношению к юридическому методу и законам 1 ч. Х т. о правах добросовестного владельца на плоды было допущено со стороны юриспруденции. Ведь все юристы, которые читали ст. 626 и в особенности ст. 630 (по которой необработанные золотосодержащие пески и т. п. "не должны быть за ним - добросовестным владельцем - оставлены"), а таких юристов, конечно, было весьма много, не могли не заметить, что здесь решает не separatio или perceptio fructuum. Ведь это сообщает закон expressissimis verbis. А между тем communis opinio doctorum, игнорирующая это и подобные другие постановления закона, насколько нам известно, до сих пор не подвергалась даже спору и сомнению. Как это возможно? А возможно и осуществилось на деле это столь поразительное с точки зрения юриспруденции как таковой явление, как нам кажется, только потому, что симпатии всех склоняются в пользу того же общего решения вопроса, которому следуют новые законодательства и которое кажется юриспруденции столь естественным и справедливым, что романисты насильно навязывают его мудрой классической римской юриспруденции, а иное решение, опирающееся на различие fructus consumpti и extantes, сваливают, как и иные действительные или мнимые "безобразия" в Corpus iuris, на козлов отпущения науки римского права - злых компиляторов. Правда, интересующие нас положения Х т. еще не были подвержены научной цивильно-политической оценке, в частности не была определена их ценность с точки зрения народного хозяйства, так что о решении юридических вопросов по "цивильно-политическим" основаниям здесь, собственно, речи быть не может, если под цивильно-политическою оценкою разуметь научное исследование по тому методу и с той точки зрения, какие в данной области могут быть научно обоснованы и оправданы как рациональные и научные приемы исследования, в частности в области частно-правного строя народного хозяйства - исследование с научно-экономической точки зрения. Но каковы бы ни были свойство и происхождение тех мотивов или воззрений, которые вызвали отмеченное выше ненормальное явление, во всяком случае факт игнорирования очевидной воли положительного закона со стороны юриспруденции достаточно обосновывает высказанный нами упрек.
Мы констатировали, что не только положение ст. 630 о минералах, но и все отдельные положительные постановления 1 ч. Х т. о хоз. продуктах основаны на совсем иных принципах, нежели то начало separatio или perceptio fructuum, которое, по-видимому, выражено в первой половине ст. 626. Коллизия получила принципиальный характер, и мы должны найти из нее принципиальный выход.
Дает ли наука права, содержит ли юридическая методология правило на случай подобных коллизий?
В дигестах на первом месте в титуле De diversis regulis iuris antiqui (50, 17) поставлено следующее положение:
Non ex regula ius sumatur, sed ex iure quod est regula fiat. per regulam igitur brevis rerum narratio traditur, et, ut, ait Sabinus, quasi causae coniectio est, quae simul cum in aliquo vitiata est, perdit officium suum.
Этот методологический принцип освящен и дальнейшей послеримской многовековой историей науки гражд. права. Его, насколько нам известно, со времен римских юристов до наших дней наука права никогда не колебала и не оспаривала, хотя отдельные нарушения его на деле всегда случались и теперь весьма часто происходят и даже являются весьма общею и существенною причиною ошибочных юр. теорий[288].
Начало это, являющееся особенно важным руководящим правилом при научной разработке той громадной массы законов, которые содержатся в Corpus iuris, должно быть аналогично применяемо и в области других гражданских прав.
Всегда следует осторожно относиться к общим правовым определениям, положениям и изречениям и проверять их правильность путем сопоставления с частными решениями и нормами. Если эти частные положения, логически по предмету регулирования подчиненные общей regula, на самом деле по содержанию ей противоречат, то не может быть сомнения в том, что не общее положение, определение и т. п. разрушает и уничтожает частные, а наоборот. За частными нормами следует признать полную силу, а общая regula соответственно "perdit officium suum", как выражается римский юрист.
И это вовсе не какое-либо условное правило, выдуманное юристами для того, чтобы рассекать гордиевы узлы противоречий, а весьма разумное начало, вытекающее из существа, происхождения и задач права.
Особенно ясною и наглядною представляется разумность его по отношению к Corpus iuris, которое содержит в себе наряду с громадною массою весьма частных и специальных решений и положений много и весьма общих, абстрактных положений, которые были достигнуты римскими юристами путем обобщения частных положений, применявшихся в их юридическом быту. С этой точки зрения мы можем в массе законов, составляющих Corpus iuris, различать два наслоения (впрочем, без резкой разграничительной черты): 1) с одной стороны, такие положения, которые являются более или менее непосредственными продуктами кристаллизации конкретной эмпирики, правила, выработавшиеся для решения более или менее специальных практических вопросов, не путем общих теоретических размышлений, а путем обычного, однообразного решения конкретных специальных дел; 2) с другой стороны, те общие юр. принципы, которые римские ученые юристы извлекали из этого сравнительно сырого и конкретного, но зато тем более близкого к эмпирике жизни юридического материала, применяемого и проверенного на практике. Чем больше при этом они удалялись в область теоретической абстракции, тем больше было на пути поводов для ошибок в разных стадиях обобщения, для производства неправильных по содержанию или слишком широких по объему общих правил, уже не соответствующих тем ценным кристаллам правовой эмпирики, которые на этом логическом пути были сходною точкою, но далеко остались позади. Многие из таких юр. обобщений[289] в свою очередь впоследствии подверглись эмпирическому подтверждению и опытной санкции, другие были дискредитированы опытом и совсем отброшены или превращены в более узкие правила и т. д., так что и многие абстракции римских юристов не только получили полную юридическую санкцию позитивных обычных норм, но и эмпирическое освящение и подтверждение своей разумности. Впрочем, чем более общим характером отличается известное начало, принятое римскими юристами, тем меньше ceteris paribus шансов, что оно во всех своих специальных разветвлениях подвергалось достаточной эмпирической проверке и оценке со стороны цивильно-политической рациональности и получило твердую обычно-правовую санкцию. Во всяком же случае авторитет этих общих положений падает, если оказывается, что частные позитивные нормы права им противоречат. В этих случаях приходится констатировать наличность ошибки в процессе теоретического отвлечения, и это при научной переработке Corpus iuris случается весьма часто.
Положения новых гражданских уложений, представляя в значительной части компиляцию римского права, точнее - современных руководств и учебников римского права, в значительной мере являются отражением различных продуктов намеченного выше процесса юридического развития Рима. Кроме того, в новые уложения реципировано было немало и неправильных обобщений новых теоретиков наряду с более специальными нормами, обнаруживающими их неправильность. Здесь mutatis mutandis можно повторить то, что сказано относительно римских отвлеченных правил, несогласных с более конкретным правом.
Но и в области тех общих законодательных положений нового или древнего происхождения, которые произошли не как regulae путем обобщения ius, а путем непосредственных законодательных соображений и постановлений, приведенное правило относительно коллизии общих и частных положений сохраняет свой разумный правно-политичес-кий смысл (независимо от своей юридической правильности), ибо законодатель вообще тем легче и яснее обозревает область применения и значение нормы, чем она конкретнее.
Если же мы имеем дело с законодательным сборником, столь слабым по своей юридической технике и редакции, как 1 ч. Х т., то необходимость осторожного отношения к общим определениям и положениям очевидна и по другим еще основаниям. Общие юридические regulae и definitiones для своей правильности требуют, как известно, особенно высокой степени развития абстрактного мышления и редакционного юридического или законодательного искусства. Здесь не только трудно обозреть и предусмотреть цивильно-политические последствия (влияние на народное хозяйство, народную этику:), но и нелегко обнять в мысли всевозможные юридические consequentiae, т. е. все частные юридические положения, которые скрываются в общей definitio или regula самой по себе, или в комбинации ее с другими законами, и подчас существенно изменяются от незначительного изменения (например, иной расстановки слов, знаков препинания) в редакции общего положения. Omnis definitio periculosa est, но то же относится ко всем абстрактным положениям 1 ч. Х т. в бесконечно большей степени, нежели, например, к Corpus iuris или новому германскому уложению.
Применяя рассмотренный юридический принцип к вопросу о правах добросовестного владельца на плоды, мы должны прийти к заключению, что высказанное в 626-й ст. общее положение о предоставлении владельцу "полученных доходов" (если эти слова означают fructus separati или percepti) следует рассматривать как "regula", quae "perdit officium suum" вследствие столкновения с "ius quod est", ибо оно не оказывается правильным по отношению ни к одной категории плодов. Даже сено, хлеб и т. д. распределяются между собственником и добросовестным владельцем вовсе не по моменту separatio, а равно и не по моменту perceptio fructuum, а по более позднему моменту (coactio, perfecta collectio).
Но толкование выражения "получение доходов", "полученные уже доходы" в смысле отделения плодов (separatio fructuum), т. е. момента, по которому римское право и новые кодексы определяют приобретение плодов со стороны добросовестного владельца, представляло бы и при отсутствии дальнейших специальных положений ст. 626 явный и решительно ничем не оправдываемый произвол. Неправильным, хотя и не столь поразительно произвольным представляется толкование этих выражений и в смысле perceptio fructuum в техническо-юридическом смысле. И притом и такое толкование было бы неправильным даже и в случае отсутствия дальнейших специальных положений ст. 626 и др.
Понятие "полученные доходы" в ст. 626, как и вообще понятие "доходы" в 1 ч. Х т., имеет совсем иной смысл.
Если применять к этому понятию технические категории римской и современной науки права, то наиболее подходящей категорией оказалась бы в действительности не категория fructus percepti (и подавно не категория fr. separati), а понятие fructus consumpti в техническом смысле.
Prima facie наше сопоставление: "полученные доходы" - "fructus consumpti" может, пожалуй, показаться странным парадоксом. "Получение" означает появление у меня, consumpti означает "исчезновение".
Естественно и можно было говорить о значении consumptio fructus по 1 ч. Х т. раньше, при рассмотрении положений, говорящих о "проданных уже" животных и т. п., но попытка насильно вложить понятие "consumptio" в общее выражение "полученные доходы" является, по-видимому, совершенно произвольным и даже смешным усердием в пользу теории fructus consumpti.
На самом деле это далеко не так. Прежде всего заметим, что с научно-экономической точки зрения понятие "полученный доход" никоим образом нельзя было бы отнести к fructus consumpti или percepti: в таком отождествлении заключалось бы изрядное количество ошибок с точки зрения экономической теории.
Для "получения дохода" прежде всего нужно завершение производства со стороны хозяина, "получающего доход". Но separatio (или perceptio) есть лишь одна из средних стадий производства, вовсе еще не решающая окончательно, будет ли "получен доход" и каков будет его размер. Скошенная владельцем рожь есть fructus percepti, но не "полученный доход" с экономической точки зрения. Еще нужно связать рожь в снопы, сложить потом в копны, убрать ее с поля, вымолотить etc., и до окончания производства существуют такие опасности (например, в дождливых местностях), которые могут совсем разрушить надежду хозяина на "получение дохода" или на значительный размер этого дохода. Кроме этих ошибок с точки зрения производства в отождествлении fructus separati с "полученным доходом" скрываются и ошибки с точки зрения распределения. В разных стадиях частнохозяйственного производства происходит распределение наперед народнохозяйственного дохода, ожидаемого в результате производства, между различными субъектами, соприкосновенными с данным частным хозяйством, т. е. происходит "получение дохода" (частнохозяйственного) с точки зрения этих субъектов. При этом такое "получение дохода" (окончательное выделение доли, причитающейся субъекту из дохода в народнохозяйственном смысле) до завершения производства, например, в сельскохозяйственном имении, на фабрике и т. п., имеет место со стороны многих лиц, но отнюдь не со стороны самого предпринимателя. Так, платеж 1000 рублей разным лицам, например крестьянам соседних деревень за уборку хлеба с полей, означает, что эти лица "получили" свой "доход", свою долю в народнохозяйственном доходе, производимом в данном предприятии. Но свезенный хлеб в снопах вовсе не совпадает с той частью народнохозяйственного дохода, которая приходится на долю предпринимателя, например добросовестного владельца имения. В дальнейших стадиях производства, например время молотьбы, будет продолжаться такое же распределение, и опять придется разным лицам выделить их долю участия в результате производства. Отсюда видно, что в разное время после separatio fructuum различные лица могут "получить доход" и уйти домой спокойно его потреблять как "свой" доход, но предприниматель не может в этих стадиях считать продукт "своим доходом" с экономической точки зрения, несмотря на наличность права собственности.
Примечания:
[286] Эти замечания о гражданских
плодах нелишни ввиду того, что по этому вопросу в литературе можно найти
сомнения и недоразумения весьма элементарного свойства.
[287] Выше (на стр. 98, в пр. 2) мы
соглашаемся с мнением, видящим в конце l. 4 § 19 D. de usuc. 41,3
(idem in agnis dicendum, si consumpti sint) положение юридически невозможное,
если под словами idem dicendum разуметь приобретение права собственности
со стороны владельца. Это противоречит, по-видимому, тому, что мы здесь
говорим в тексте, но только по-видимому. Следует принять во внимание нашу
оговорку относительно исключения потребления в тесном смысле и нашу юр.
конструкцию на случай отчуждения плодов. Главным же основанием, почему
в пределах римского права формула b. f. possessor fructus consumptos suos
facit не имеет в виду и не может решать вещных вопросов и почему обратное
в виде общего правила верно для русского права, видно из всего вышесказанного
о праве собственности на плоды по 1 ч. Х т., относящегося именно к праву
1 ч. Х т. в отличие от римского права.
[288] К таким ненаучным теориям, основанным
на нарушении этого начала, относится, напр., господствующая теория плодов.
В этом смысле почти все содержание первого тома «Lehre v. Einkommen» содержит
в себе сплошное подтверждение необходимости осуществления на деле приведенной
regula iuris. Еще более поразительный пример этого рода представляет господствующее
учение о процентах (ср. 2-ю часть 2-го тома Lehre v. Einkommen), совсем
не похожее на то право процентов, которое действительно содержится в Corpus
iuris, но только не в тех неправильных общих изречениях источников, на
которых новый романизм основывал свою теорию, а в массе отдельных частных
положений и решений, представляющих в то же время в противоположность
господствующей теории замечательно рациональное с цивильно-политической
точки зрения право. Несоблюдение того же общего начала было причиною возникновения
теории, будто предметом так называемых исков о незаконном обогащении является
фактическое обогащение ответчика etc. etc.
[289] Их нельзя смешивать с теми теориями
римских юристов, о которых мы говорили выше, в § 23, передающих не
общие начала права, а различные рассуждения о праве, о его разумности,
о причинах его возникновения и т. п., и которым мы придали значение лишь
ненаучной и примитивной литературы о праве.