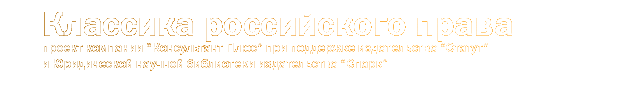Петражицкий Л.И. Права добросовестного владельца на доходы с точек зрения догмы и политики гражданского права
Окончательный результат развития института приобретения плодов, как мы старались его определить и доказать в догматическом изложении, все частные положения его построены так, как будто они были сознательно и весьма остроумно созданы для осуществления изложенной во второй части нашего исследования хозяйственно-политической идеи.
Теряет ли эта идея свое значение от того, что это только "как будто", что на самом деле римские юристы ее не знали и при развитии института не принимали во внимание? В глазах критиков настоящего исследования это обстоятельство имеет важное отрицательное значение. И притом не только противники нашей теории приобретения плодов, но даже и ее решительный приверженец Леонард видят в этом слабость нашего взгляда. Иначе Леонард не пытался бы путем искусственного толкования слов cultura et cura приписать защищаемую идею Юстиниану и создать для нее таким образом подтверждение в источниках.
По нашему мнению, напротив, именно то обстоятельство, что наш институт помимо сознания и намерения римских юристов приноровился к осуществлению указанной нами функции, говорит в пользу этой функции и в пользу отдельных правил римского права. Ибо здесь выражается воздействие и кристаллизация самих общественных фактов, а не чьих-либо умствований, могущих быть ошибочными и требующих логической поверки. Если бы мы имели дело с теорией какого-либо римского юриста и дедуктивными выводами из нее, то римское право не давало бы нам ничего более, нежели то, чего и мы путем теоретического мышления легко можем достигнуть. На самом же деле римское право дает нам весьма ценное благо, которого бы иначе мы достигнуть не могли, а именно эмпирическое подтверждение правильности нашей теории в виде отложения несметной массы фактов. Совпадение результатов наших теоретических выводов с результатом бессознательной массовой эмпирики создает особое основание для убеждения в правильности нашей теории.
Но не только с цивильно-политической, а и с исторической точки зрения то обстоятельство, что наш институт не есть плод целевого сознания и понимания римских юристов, должно не смущать нас, а скорее создавать чувство научного удовлетворения. Иначе при сравнении римского права с новейшими рассуждениями ученых о его положениях получился бы весьма странный и ненормальный результат. Право Corpus iuris, например, весьма удачно решает вопрос о том, какие владельцы приобретают плоды; новейшие же романисты пытаются ввести и приписать источникам разные ограничения относительно титула (Karlowa, Ihering и др.), требуют вопреки ясным постановлениям источников ограничения права приобретения случаями владения в виде собственности (Czyhlarz и др.) etc. Точно так же по всем другим вопросам нашего института вполне разумному положению Corpus iuris можно противопоставить массу попыток современных ученых ввести какое-либо неудачное и не соответствующее функции нашего института положение. Если исходить из оспариваемого нами взгляда на развитие права, то пришлось бы воскликнуть: как низко упали наши интеллектуальные способности и, в частности, наше цивильно-политическое мышление и сознание в сравнении с мышлением римских юристов! Как неизмеримо умнее были и научнее мыслили римские юристы, нежели современные ученые! Положим, эти восклицания не покажутся особенно парадоксальными читателю, знакомому с нашей наукой и ее традиционными взглядами. Ибо современная наука римского права весьма смиренно признает, что римские юристы обладали особым остроумием и гениальностью в области творческого права, которые для нас едва ли достижимы, что мы в области правно-политического мышления должны подражать методу римских юристов, etc. etc.
Но это традиционные фразы, которые только потому переходят из поколения в поколение ученых романистов, что не было критически исследовано, в чем же состоит этот знаменитый "метод" римских юристов и может ли он претендовать на громкое название "метода", т. е. научного, сознательного и последовательного приема мышления; и не было обращено внимания на то, что римские юристы не только не выработали какого-либо "метода" цивильно-политического мышления, но и не могли этого достигнуть ввиду тогдашнего состояния знаний в области общественных и, в частности, экономических явлений.
Представители же других наук и, в частности хозяйственной политики или логики и методологии, весьма бы удивились, если бы узнали, что в области политики гражданского права был уже выработан римскими юристами правильный и достаточно глубокий "метод".
На самом деле экономическое, правно-политическое etc. сознание и понимание римских юристов находилось в состоянии вполне примитивном, и о подражании их "методу" мышления речи быть не может. Если развитие римского права повело к блистательным результатам, то это следует приписать не положительной силе сознания и научного мышления римских юристов, а скорее слабости и бессилию этого мышления в противопоставлении его с бессознательной тенденцией развития, скорее тому обстоятельству, что их личные взгляды о смысле и значении отдельных институтов права редко влияли на развитие последних, а если в известных скромных пределах играли более активную роль и производили мелкие замешательства, то со временем следовала корректура со стороны бессознательной эмпирики.
В громадном же большинстве случаев решения римских юристов, представляющие что-либо новое, а не применение только уже действующего права, являются не продуктом какого-либо сознательного взгляда на цель и смысл института и не продуктом правильного "метода", а просто результатами практического инстинкта или чувства справедливости как бессознательных продуктов народной эмпирики. Но нельзя также думать, чтобы их инстинктивное юридическое чувство всегда действовало верно и удачно. Напротив, несомненно римские юристы создавали и массы неудачных решений. В Corpus iuris не видно всего несомненно произведенного в свое время хлама негодных и неудачных решений римских юристов как естественных продуктов движения ощупью и наугад. Corpus iuris представляет продукт продолжительного процесса бессознательной сортировки, сохраняющей годное и устраняющей негодное. При этом под субъектом такой сортировки мы разумеем не кодификаторов, а опять-таки бессознательную эмпирику. Но и в Corpus iuris мы видели выше примеры прежних, со временем устраненных, ошибочных решений, и притом не только таких, которые исходили из поверхностной и ложной теории cultura et cura.
Впрочем, возвращаясь к этой теории, мы должны сделать еще одну оговорку (ср.: Fruchrvertheilung, стр. 209). Весьма возможно, что трудовая теория, которая в наших источниках выступает в роли временной помехи правильного развития института, прежде, в то время, о котором не сохранилось исторических свидетельств в источниках, оказала полезное влияние. Возможно, что в начальную эпоху развития прав добросовестного владельца на плоды теория cultura et cura являлась союзником этого развития, приводилась как аргумент против консервативных защитников строгого проведения права собственности. И вполне ложные и поверхностные теории относительно существующих общественных явлений или желательных реформ в будущем могут фактически содействовать прогрессу и улучшению общественной организации, если они, несмотря на ошибочность своих посылок, ведут к таким заключениям, которые движутся в направлении правильного развития и более или менее совпадают с инстинктивными тенденциями общества. С другой стороны, опытно-инстинктивные и более или менее смутные тенденции развития обыкновенно содействуют появлению таких теорий и взглядов, которые движутся в том же направлении, и одобрению их со стороны современников, хотя бы они были логически крайне несостоятельными. Но со временем такие относительно полезные теории делаются вредными, потому что, когда дело доходит до осуществления в действительности инстинктивных постулатов, давших им жизнь и силу, они ведут к неправильным последствиям и задерживают дальнейшее улучшение. То же случилось в истории приобретения плодов с теорией cultura et cura.
Но и для начала развития института едва ли можно приписывать трудовой теории очень важное значение. Lucrum доходов от таких предметов, где аргументация с точки зрения cultura et cura не была возможна (например, рабы, городские дома etc.), по-видимому, развилось не позже, нежели приобретение сельскохозяйственных продуктов. Напротив, права добросовестного владельца на эти продукты еще долго подвергались спорам и сомнениям в различных направлениях, между тем как приобретение через рабов, находящихся в добросовестном владении, было уже окончательно регулировано и бесспорно признано. Если римские юристы желают доказать какое-либо положение относительно приобретения сельскохозяйственных продуктов, то они опираются на правила о приобретении доходов от рабов как на доказательную аналогию (ср. l. 25 1, 2 D. de usuris 22, 1; l. 40 D. de a. r. d. 41, 1).
Добавление I. В немецком издании этого сочинения была сверх рассмотренных исторических данных изложена гипотеза относительно возникновения права собственности владельца на плоды. Результат этой гипотезы формулирован на стр. 213 следующим образом:
"Одним словом, в праве собственности добросовестного владельца на плоды мы видим естественное последствие постепенного ограничения vindicationes fructuum. Restitutio fructuum extantium является остатком прежней самостоятельной vindicatio fructuum extantiuum. Потому restitutio эта не рассматривается в источниках как нововведение в пользу dominium, а предполагается как естественное и традиционное явление".
Против этой гипотезы полемизирует Oertmann (1. c., стр. 582). Он признает, "что собственник вещи первоначально признавался собственником плодов (несмотря на b. f. possessio) и мог их виндицировать". Точно так же он считает вероятным, "что права собственника вещи относительно fructus consumpti были постепенно устранены в интересе bonae fidei possessor". Но ему кажется невероятным и непонятным, как право собственника вещи на fructus extantes из самостоятельного права собственности превратилось в побочное требование при vindicatio главной вещи, как притязание на fructus extantes могло так радикально изменить свою природу.
Это непонимание и удивление почтенного критика в свою очередь мне не совсем понятно. Ведь признавая первоначальную собственность и самостоятельную vindicatio на плоды собственника главной вещи, а с другой стороны, не отрицая, что в Corpus iuris эти права собственника главной вещи не признаются, а признается только побочное требование fructus extantes при vindicatio главной вещи, почтенный критик сам становится на мою точку зрения и признает то радикальное изменение, которое его удивляет. Следовательно, ему остается только удивляться по поводу странности признаваемых им исторических явлений, радикальности исторических изменений права, а не по поводу моей гипотезы. Но и здесь нет ничего странного. Ведь перемена была бы гораздо радикальнее, если предположить, что собственник вещи сразу был лишен своих первоначально абсолютных прав на плоды, а владелец сразу получил на них право собственности (против какового предположения направлены мои рассуждения в Fruchtrvertheilung). Если же предположить, что проведение первоначально полного права собственности собственника вещи на плоды было путем ограничений исков низведено на право виндикации fructus extantes вместе с главной вещью (против чего критик не спорит), то юридическое признание фактического исчезновения существенного содержания права собственности на плоды на стороне собственника вещи и конструкция побочной vindicatio fructuum extantium, как praestatio personalis, представляет весьма мало радикального. Напротив, оно так же естественно и не радикально, как известное признание, что субъект ius Quiritium вследствие постепенного низведения этого ius на nudum ius на самом деле не собственник и что право собственности на самом деле перешло к субъекту in bonis habere. Дело сводится, главным образом, к признанию более уместной юридической формулировки, к признанию исчезновения того права, от которого осталась только ничтожная тень.
Если мы здесь ограничиваемся сообщением существа нашей гипотезы, не передавая ее более подробного изложения, то это объясняется не опровержением Oertmanna, которое не в состоянии ее опровергнуть, а тем обстоятельством, что она все-таки только гипотеза, не могущая быть положительно доказанной, и не обладает достаточно широкой и важной для нас объяснительной ценностью, чтобы заслуживать повторения здесь в полном виде.
В источниках римского права слишком много материала для недобытых еще полноценных научных приобретений, чтобы терять время на гипотетические построения относительно формально-юридических изменений. Этим замечанием мы вместе с тем отвечаем и на другой упрек Oertmanna по поводу нашего отношения к истории института приобретения плодов. А именно, он упрекает мое исследование в излишней краткости исторической части, находя, что я бы мог и должен был подробнее исследовать и изложить время появления и историю нашего института. Высказывать такие упреки и предъявлять такие требования, конечно, весьма нетрудно. Еще в гораздо большей степени их можно направить против всех весьма многочисленных моих предшественников, не исключая даже и Чиляржа, хотя направление его исследования почти исключительно историческое, будучи специально посвященным вопросу об интерполяции текста.
Вместо таких упреков, едва ли справедливых ввиду сравнительно большого умножения исторических вопросов и их решения в моем исследовании, критику следовало бы указать, в чем состоят те исторические открытия, которые я еще мог сделать, т. е. вкратце сообщить свои новые исторические мысли. Этого он не делает, а только указывает на l. 48 5. 6. D. 47,2, l. 45 D. 22,1 и l. 48 pr. D. 41,1 как на материал, которым я мог бы воспользоваться для исторических построений. Почему он сообщает мне как новость об историческом значении l. 45 D. 22,1 и l. 48 pr. D. 41,1, мне непонятно ввиду того, что историческое значение этих мест подробно мной разобрано на стр. 205-210 Fruchtrvertheilung (ср. выше, стр. 275 и сл.; l. 45 cit. - это именно решение Помпония, где проведен принцип cultura et cura, 1. 48 pr. - мнение Павла, отвергающее следующее отсюда ограничение приобретения плодов). Что же касается указания на l. 48 5. 6. D. 47,2, то оно основано на двойном недоразумении. Первый недосмотр критика состоит в том, что он полагает, будто я в Fruchtvertheilung упустил из виду этот фрагмент и не указал своего отношения к нему. Между тем на стр. 93, пр. в Fruchtvertheilung указано как это место, так и его правильное толкование (путем ссылки на Vangerow § 326 Anm. 2 c., ср. выше, стр. 100, пр. 1). Второе недоразумение состоит в том, будто это место дает основание для особых исторических выводов. Положим, на нем Дернбург строит предположение, что Сабин не признавал права собственности владельца на плоды. А именно, в § 205, пр. 12 его учебника читаем:
"Сабин, по-видимому, еще не признавал права собственности добросовестного владельца на плоды. Так, кажется, можно объяснить явное противоречие в 1. 48 5. 6. D. de furtis 47,2 (Ulpianus libro 42 ad Sabi-num). Ancilla si subripiatur... concepit apud bonae fidei possessorem ibique pepererit, eveniet ut partus furtivus non sit, verum etiam usucapi possit. idem et in pecudibus servandum est et in fetu eorum, quod in partu(!). Ex furtivis equis nati statim ad bonae fidei emptorem pertinebunt, merito, qua in fructu numerantur: at partus ancillae non numeratur in fructu. Следует предполагать, что первая часть фрагмента содержит мнение Сабина, а заключение - господствующую во время Ульпиана теорию".
Oertmann, l. с., указывает, что я не воспользовался этим примечанием Дернбурга в историческом изложении. Это же примечание и l. 48 cit. он, очевидно, имеет в виду, говоря о том, что я упустил определение времени возникновения института. Так что его упрек, очевидно, сводится к тому, что я не указал, что наш институт возник после Сабина. Но такое предположение относительно времени происхождения института по меньшей мере слишком смело даже в том случае, если бы 1. 48 cit. заключало в себе противоречие и если предполагать, что Ульпиан начинает с изложения мнения Сабина и излагает дальше свои взгляды.
На самом деле в l. 48 cit. нет никакого противоречия. Там говорится о furtivitas детенышей и указывается, что они свободны от этого vitium, если зачаты и рождены, хотя и краденой матерью, но у добросовестного владельца. Сначала это положение высказывается относительно partus ancillae, а потом относительно fetus pecudum. При этом Ульпиан указывает и на практические последствия свободы детенышей от vitium furti. А именно, в случае partus ancillae вследствие этого возможно приобретение по давности, в случае fetus pecorum приобретение наступает statim, так как fetus pecorum подчиняется правилам fructus. Противоречие возникает только тогда, если предположить, что слово idem относится не к рассматриваемому ex professo положению, а к его частному последствию относительно partus, т. е. к приобретению по давности. Но Ульпиан, кажется, достаточно обезопасил себя против такого ложного толкования прямым указанием, в чем это idem проявляется относительно fetus.
Если, вопреки смыслу всего места и этому указанию, все-таки относить idem к приобретению по давности, а не к vitium furti, то, конечно, появляется "явное противоречие" и несообразность, и это противоречие не устраняется никакими историческими догадками.
Ввиду научной слабости предположения о непризнании права собственности на плоды со стороны Сабина, я не считал нужным открывать против него особую полемику, а считал достаточным указать в своем месте, что правильное толкование l. 48, устраняющее ложные выводы из этого фрагмента, можно найти у Вангерова (ср. также: Czyhlarz, стр. 499, пр. и сл., и др.). Что же касается времени возникновения института, то для его определения нет никаких научных данных. Можно только ввиду высказанной Дернбургом догадки особо указать, что непризнание права собственности добросовестного владельца в эпоху Сабина не только не подкрепляется никакими историческими данными, но и особенно невероятно ввиду существования указаний в пользу известности нашего института уже в эпоху Квинта Муция (ср. l. 45 D. 22,1; l. 54 D. 41,1).