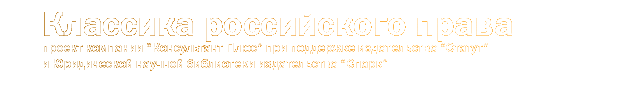Пассек Е.В. Неимущественный интерес и непреодолимая сила в гражданском праве
Мы и здесь не имеем в виду отрицать, что Ульпиан при описанных в тексте обстоятельствах действительно признает должника безусловно ответственным за повреждения вещи, но и здесь мы не считаем возможным сделать отсюда тот дальнейший вывод, что юрист имеет этим в виду возложить на должника ответственность за случай. Если мы обратим внимание на данную текстом мотивировку, то в основании решения найдем ссылку на непринятие должником необходимых мер предосторожности, т.е. ссылку на наличность вины. Для доказательства противного Барон, как нам кажется, до некоторой степени преувеличенно рисует опасности, угрожающие должнику от "внезапного появления мышей", и ставит его в преувеличенно беспомощное по отношению к последним положение: при таких условиях оставалось бы только недоумевать, почему Барон не относит появления мышей к случаям непреодолимой силы[752]. Наличность вины усматривается здесь, правда, уже и в простом факте допущения должником того повреждения, о котором идет речь в данном случае, но в этом едва ли можно усматривать что-либо нуждающееся в особом объяснении. О наличности или об отсутствии вины суждение всегда возможно не иначе, как на основании фактической обстановки данного частного случая, а при известной фактической обстановке мы и в настоящее время едва ли затруднимся решить вопрос о виновности или невиновности должника, не входя в какой бы то ни было детальный психологический анализ. Если, например, отданные в починку часы будут возвращены не с исправленным, а с еще более изломанным механизмом; если отданное в починку черное платье окажется покрытым заплатами разных цветов; если отданная в переплет книга возвратится со сплошь перепутанной нумерацией листов или страниц, - во всех этих случаях никто не затруднится заключить, что лицо, исполнявшее заказ, без всякого сомнения, отнеслось к порученному ему делу небрежно: при сколько-нибудь внимательном отношении часовщика, портного, переплетчика и т.п. к исполнению заказа ничего подобного не могло бы иметь места - quia debuit ab hac re cavere. Всякий, по всей вероятности, скажет то же, что говорит Ульпиан, и о прачке, которая возвращает отданное ей в стирку белье изъеденным мышами. Только это соображение, а никоим образом не возложение на должника безусловной ответственности за случай можно поэтому усматривать и в L. 13 § 6 D. loc. 19. 2[753].
Если изложенные соображения правильны, то этим самым мы поставлены, конечно, в необходимость признать наличность необъяснимого на первый взгляд противоречия между нормой, выраженной в L. 13 § 6 D. cit., с одной стороны, и L. 2 pr. D. si quadrup. 9. 1 - с другой: должник несет безусловную ответственность не за те повреждения вещи, которые причинены животными вообще, а за те из них, которые причинены чужими животными, животными, имеющими хозяина. Почему? Вопрос аналогичный тому, с каким мы уже встречались по отношению к ответственности за повреждения вещи, причиненные действиями третьих лиц и ответ на который здесь еще дан быть не может. Заметим только то, что при описанных условиях мы не можем искать решения этого вопроса ни в различии между последствиями указанных событий (эти последствия везде состоят в имущественном ущербе), ни в том, что в одних случаях должник мог бы рассчитывать на возмещение уплаченной им кредитору суммы ущерба со стороны истинного виновника события, в других - нет; такой возможности он не имеет, правда, в случае повреждения вещей животными, никому не принадлежащими[754], но она одинаково имеется как в иске de pauperie, так и в иске legis Aquiliae (в первом случае ответственным является собственник животного, во втором - тот, кем причинен вред), между тем оба названных иска все-таки обсуждаются по различным правилам. Ввиду того что различия ни по существу, ни по цели с этой точки зрения между всеми названными исками отмечено быть не может, различие в установленных для них нормах может лежать только в историческом развитии права. В этом отношении мы уже и здесь можем обратить внимание на то обстоятельство, что оба иска, в которых наличность безусловной ответственности, по свидетельству источников, может считаться более или менее обоснованной (actio furti и actio de pauperie), действительно принадлежат к числу древнейших цивильных исков, не только уже известных законам XII табл., но, без сомнения, еще и много более древних, чем эти последние, между тем как actio legis Aquiliae, хотя и основана на законе, изданном еще в республиканское время, происхождения сравнительно гораздо более позднего[755].
Принимая во внимание только что изложенное, мы должны будем прийти к тому выводу, что для определения тех случаев, в которых могло бы быть защищаемо положение о безусловной ответственности должника по договору найма, мы никоим образом не вправе переходить за установленные выше и общие всем остальным до сих пор рассмотренным видам договоров границы[756].
Но в свою очередь и здесь, как и раньше, даже и эти результаты далеко не могут быть названы бесспорными и не подлежащими в достаточной степени обоснованным возражениям. Мы видели уже раньше, что в числе текстов, подрывающих выводы о безусловной ответственности должника за утрату вещи посредством кражи для договоров коммодата и ручного заклада, встречаются и такие, которые имеют то же значение и для договора найма[757]. Не возвращаясь для избежания излишних повторений ко вторичной передаче того, что в своем месте было уже изложено подробно, отметим, однако, что и по отношению к найму должно, следовательно, быть констатировано то же противоречие в источниках: рядом с данными, говорящими в пользу безусловной ответственности conductor'a за утрату вещи вследствие furtum, rapina, pauperies, fugae servorum qui custodiri solent, существуют и такие, которые возлагают на него ответственность лишь при наличности какой-либо вины с его стороны в наступлении этих событий. Остается, наконец, указать, что и для договора найма нет недостатка в текстах, говорящих о том, что должник принципиально не признается здесь ответственным за что-либо большее, чем за culpa levis. Особое значение в ряде последних имеет L. 3 § 1 D. naut. 4. 9, где Помпоний, выражая свое недоумение по поводу мотивов издания эдикта de recepto, находит решение его именно в том, что ответственность по actio locati определяется иными принципами, чем ответственность по эдикту de recepto: "In locato conducto culpa, in deposito dolus dumtaxat praestatur, at hoc edicto omnimodo qui recepti tenetur, etiamsi sine culpa ejus res periit vel damnum datum est, nisi si quid damno fatali contingit". Невозможно яснее и резче, чем это сделано римским юристом в приведенных словах, констатировать наличность ответственности conductor'a только за culpa levis и в то же время отрицание того, что ответственность эта идет до границ непреодолимой силы[758].
Происхождение указанного противоречия и здесь требует, конечно, особого объяснения, но едва ли возможно сомневаться в том, что уже для классического права толкование его должно даваться в смысле ответственности должника во всех без исключения случаях не более чем за легкую вину. Прежде чем перейти к изложению остальных юридических отношений, необходимо, однако, указать на то, что для договора найма понятие непреодолимой силы имеет еще одно специальное применение: vis major или θεοδ βία, как ее называет Гай в L. 25 § 6 D. loc. 19. 2, может служить основанием для требования со стороны арендатора сельского недвижимого имения соответственной причиненному ею ущербу скидки с условленной арендной платы (remissio mercedis). Случай этот имеет ту особенность, что дело идет здесь не об ответственности должника за целость и сохранность находящейся у него в руках чужой вещи, а об освобождении его от обязанности к уплате условленного вознаграждения за пользование чужой вещью. К более подробному анализу содержащихся в этом тексте для определения понятия непреодолимой силы данных придется еще вернуться впоследствии[759].
3) Не останавливаясь на договоре товарищества (societas), в котором ответственность за custodia может быть устанавливаема только особым соглашением сторон[760], необходимо, однако, рассмотреть подробнее вопрос о такой ответственности по отношению к договору поручения (mandatum), где он также представляется спорным.
Мнение о повышенной ответственности мандатара устанавливается и защищается Брукнером для тех случаев мандата, в которых с содержанием последнего связана передача принадлежащей манданту мандатару движимой вещи[761]. В обоснование своего взгляда Брукнер приводит следующие соображения:
Во-первых, положительное подтверждение его он находит в L. 14 § 9 D. de furt. 47. 2. Содержание этого текста, говорит Брукнер, не оставляет никакого сомнения в том, что мандатар, получивший поручение передать другому лицу принадлежащую манданту вещь, признается управомоченным на предъявление иска о краже, откуда следует, что он отвечает за custodia наравне со всеми другими должниками, за которыми источники также признают право на actio furti.
Во-вторых, подобно тому, замечает Брукнер, как возможен наем custodiae, возможен и mandatum custodiae. А так как этот вид мандата по содержанию своему ничем в сущности не отличается от договора поклажи, то различие между ними и могло бы заключаться только в более строгой ответственности должника, почему в этом случае мандатар, несомненно, и должен быть признан ответственным за custodia в техническом смысле этого слова. В подтверждение этого своего договора Брукнер ссылается на L. I § 12 D. depos. 16. 3 и на L. 51 D. de acquir. poss. 41. 2.
В-третьих, наконец, несомненно, утверждает Брукнер, что fullo несет ответственность за custodia в техническом смысле и в том случае, если он принимает заказ к исполнению бесплатно, если он является, следовательно, не conductor'ом, а мандатаром заказчика. В доказательство этого своего утверждения Брукнер указывает на § 13 I. de mand. 3. 26, а также и на то соображение, что, говоря об обязанности прача отвечать за custodia, источники нигде не упоминают о том, что при бесплатном исполнении заказа он от этой ответственности освобождается.
Из этих трех доводов Брукнера два последних во всяком случае весьма слабы. Возможность поручения, содержанием которого является хранение вещи (mandatum custodiae) и которое ввиду такого содержания действительно представляет полную аналогию с договором поклажи, сама по себе еще не дает права на заключение, что в этих случаях различие поручения от поклажи должно состоять в том, что мандатар должен быть признаваем ответственным за custodia в техническом смысле слова, между тем как поклажеприниматель отвечает только за dolus. Такое различие между обоими указанными договорами, а вместе с тем и повышение ответственности мандатара сравнительно с поклажепринимателем заключалось бы уже и в том, что первый из них отвечает за culpa levis, тогда как второй - только за dolus. Для Брукнера, основной принцип которого состоит именно в том, что ответственность за custodia неизбежно наступает ipso jure везде, где к признаку "rem tenere domini voluntate" присоединяется признак ответственности должника за culpa levis, наличности последней в mandatum custodiae вполне достаточно, конечно, для обоснования того вывода, что в этом случае отвечает за custodia и мандатар. Но насколько точен и безошибочен самый устанавливаемый Брукнером принцип и может ли быть придаваемо последнему значение, так сказать, математической формулы, которая давала бы возможность с безусловной достоверностью определить область применения ответственности за custodia в техническом смысле слова, - все это вопросы, которые далеко еще не могут быть названы решенными. Что же касается, в частности, до того юридического отношения, с каким мы имеем дело здесь, то следует заметить, что источники, говорящие о mandatum custodiae и приводимые Брукнером, не дают никаких оснований к заключению о повышенной сравнительно с другими случаями мандата ответственности должника[762].
Еще менее обоснованным представляется то соображение, что fullo отвечает за custodia и в том случае, если он принимает заказ к исполнению бесплатно. Тот факт, что при таком условии состоявшееся между сторонами соглашение должно быть обсуждаемо не как наем, а как мандат, стоит, конечно, вне всякого сомнения: это категорически констатирует цитированный Брукнером § 13 I. de mand. 3. 26. Но отсюда вовсе не следует само собою, что в качестве мандатара fullo несет и ту же ответственность, какая возлагается на него в договоре найма. Во всяком случае § 13 I. cit. никаких указаний на это не содержит; он к тому же имеет в виду установить именно различие, а никоим образом не сходство между обязанностями должника в каждом из рассматриваемых здесь случаев[763].
Наиболее серьезным из приводимых Брукнером аргументов представляется ссылка его на L. 14 § 9 D. de furt. 47. 2, стоящий в тесной связи с § 8 того же фрагмента. Тексты эти говорят:
§ 8 Idem Pomponius libro decimo ex Sabino scripsit, si is cui commodavi dolo fecerit circa rem commodatam, agere eum furti non posse. § 9. Idem Pomponius probat et in eo, qui rem mandato alicujus accepit perferendam.
Смысл § 9 окажется различным, смотря по тому, отнесем ли мы стоящее в начале его "idem" ко всему содержанию предыдущего § 8 или только к заключительным его словам "agere eum furti non posse". В первом случае § 9 будет иметь значение: "Помпоний говорит, что и мандатар, подобно коммодатару, не имеет права на предъявление иска о краже в том случае, если он виновен в заведомо недобросовестном отношении к вещи, порученной ему для передачи третьему лицу". В этом смысле понимает § 9 cit. Брукнер, заключая отсюда, что во всех других случаях, кроме заведомой недобросовестности, мандатар признается управомоченным на предъявление иска о краже, а следовательно, и безусловно ответственным перед мандантом за утрату вещи вследствие кражи, т.е. ответственным за custodia. Если же выражение "idem" будет поставлено в связь только с непосредственно предшествующим "agere eum furti non posse", то § 9 получит значение: "Помпоний говорит, что и мандатар, получивший вещь для передачи ее третьему лицу, права на предъявление иска о краже ни в каком случае не имеет". Этот смысл придает § 9 Барон, делая отсюда тот вывод, что приводимый Брукнером текст говорит не за, а против предположения об ответственности за custodia со стороны мандатара[764].
Едва ли есть надобность в сколько-нибудь подробных доказательствах того, что смысл, придаваемый спорному тексту Бароном, не может быть признан правильным: наиболее естественное значение выражения "idem" есть, без сомнения, то, в котором проводимое им уподобление относится ко всему раньше сказанному, а не только к заключительным словам предыдущего предложения[765]. Но одного этого еще далеко недостаточно для согласия и со всеми дальнейшими выводами, которые Брукнер считает возможным сделать из содержания § 9 I. cit. Из того, что мандатар, "qui dolo fecerit circa rem mandatam", не признается управомоченным на предъявление иска о краже, не следует еще, что во всех остальных случаях он безусловно имеет право на этот иск: такое заключение аргументом а contrario (а только таким способом тексту и может быть придано то значение, в котором он получает желательный для Брукнера смысл) далеко выходит за те пределы, в которых подобная аргументация может иметь доказательную силу. Если из общей области ответственности мандатара исключить случаи недобросовестности и грубой небрежности, то в остатке все еще получатся случаи легкой вины: за кражу, оказавшуюся возможной вследствие culpa levis мандатара, последний, по общему правилу, отвечает перед мандантом и имеет, следовательно, по общим же правилам право на предъявление иска о краже. К более широким выводам не уполномочивает здесь и уподобление с коммодатом, о котором идет речь в предыдущем § 8 фрагмента: в пределах имеющейся текстом в виду фактической обстановки (si debitor dolo fecerit circa rem: agere furti non potest) такое уподобление, безусловно, правильно.
Все доводы, которые могут быть приведены в пользу мнения об ответственности мандатара за custodia в техническом смысле слова, не могут, таким образом, быть признаны убедительными. Но, сверх того, весьма многое говорит и прямо в пользу противоположного взгляда. В этом отношении можно указать на следующие соображения.
Прежде всего источники нигде не называют мандатара в числе лиц, отвечающих за custodia и управомоченных на этом основании к предъявлению иска о краже. Такое умолчание, имеющее место даже и там, где лица эти перечисляются поименно (как, например, в L. 14 § 16 D. de furt. 4. 2), Брукнер объясняет тем, что случаи, в которых при мандате может подниматься вопрос об ответственности за custodia, вообще чрезвычайно редки. Но тем более непонятным при этом было бы то обстоятельство, что источники продолжают умалчивать о такой ответственности даже и там, где предметом анализа является именно один из этих редких случаев, как это имеет, например, место в L. 14 § 17 D. de furt. 47. 2.
Затем против мнения об ответственности мандатара за custodia говорят те тексты, в которых именно ex professo рассматривается вопрос об отношении между мандатом, с одной стороны, и custodia - с другой. Сюда относятся два фрагмента Дигест: L. I § 12 D. depos. 16. 3 и L. 5 § 4 D. de praescr. verb. 19. 5. В первом из них, принадлежащих Ульпиану, дается анализ отношения, в котором смешаны признаки поклажи и мандата: вещь передана одним контрагентом другому с тем, чтобы этот последний передал ее третьему лицу, а в случае если это третье лицо за получением вещи не явится, хранил бы ее у себя. Вещь действительно остается на руках у того, кому она была вручена для передачи; спрашивается: каким иском может быть потребовано ее возвращение? Помпоний, по сообщению Ульпиана, сомневался в том, должен ли при этих условиях быть признан обоснованным иск из поклажи (actio depositi) или иск из поручения (actio mandati). Ульпиан высказывается в пользу того, что состоявшееся соглашение должно быть рассматриваемо как мандат: quia plenius fuit mandatum habens et custodiae legem.
Примечания:
[752] Что, кстати сказать,
было бы нетрудно обосновать и ссылкой на L. 15 § 2 D. loc. 19. 2,
где наравне с «vis graculorum» или «sturnorum» (повреждение посева или
жатвы птицами) в числе случаев непреодолимой силы (vis cui resisti non
potest) легко могла бы найти себе место и «vis murium» (повреждение жатвы
мышами). Мы лично нисколько и не сомневаемся в том, что такое сопоставление
было бы вполне правильным и что повреждения, причиненные мышами, действительно
подходят под понятие непреодолимой силы, но вовсе, конечно, не потому,
что появление мышей и вред, ими приносимый, отличаются какой-либо особой
внезапностью. Если Ульпиан не относит здесь этого случая к непреодолимой
силе, то именно потому, что на его взгляд fullo, допустивший возможность
такого повреждения вещи, всегда в то же время будет и in culpa.
[753] Аналогичное толкование
должно, конечно, быть дано и продолжению текста: «et si pallium fullo
permutaverit et alii alterius dederit, ex locato actione tenebitur, etiamsi
ignarus fecerit». Допущение такого просмотра есть очевидная небрежность,
хотя бы оно произошло и без отдания себе отчета в своей ошибке.
[754] Каковы мыши;
с этой точки зрения весьма характерно, что приведенный Ульпианом случай
как раз принадлежит к числу таких, в которых предъявление иска de pauperie
невозможно.
[755] Actio vi bonorum
raptorum происхождения еще более позднего, но стоит в настолько тесной
связи с иском о краже (будучи с римской точки зрения не более как частным
случаем последней), что подведение ее под нормы иска о краже источниками
проводится постоянно и ни в каких дальнейших объяснениях не нуждается;
в связи с furtum стоят и fugae servorum – ср. пока L. 61 (60) D. de furt.
47. 2.
[756] Ср. выше, С.
278, 315, 324, 325.
[757] Выше, С. 318,
319 сл.
[758] Барон (Arch.
T. 78, стр. 254, примеч. 85) объясняет это выражение Помпония тем, что
юрист передает здесь норму древнейшего цивильного права, отмененную позднейшим
развитием последнего. Против такого толкования говорит, однако, то соображение,
что слова Помпония передаются Ульпианом без всякой поправки и что они
без поправки же вошли и в кодификацию Юстиниана. Едва ли и то и другое
может быть объяснено недосмотром со стороны последующих юристов, Помпоний
формулирует свое положение настолько категорично, что если бы сообщаемая
им норма была неверной для времени Ульпиана или кодификаторов, они не
могли бы не обратить внимания на эту неточность и ее не исправить, отметив,
что по новому праву sine culpa отвечают не только указанные в эдикте de
recepto лица, но и всякий conductor operis.
[759] Толкование этого
текста должно, чего до сих пор не делалось, быть поставлено в связь с
предыдущими параграфами 4 и 5 того же фрагмента. Содержание первого из
них (§ 4) более чем характерно: каким образом Гай приходит к тому
заключению, что в порубке, произведенной одним из соседей, арендатор должен
быть признан виновным уже и в том случае, если он чем-либо вызвал вражду
к себе со стороны этого соседа? Признак вины конструирован здесь, очевидно,
не только искусственно, но прямо натянуто: личные неприятности арендатора
с соседями могут, конечно, служить поводом к совершению деликтов с их
стороны, но никоим образом не могут делать его ответственным за совершение
ими этих деликтов, не стоя с ними в прямой причинной связи.
[760] Ср. выше, С.
259 сл.; то же относится и ко всем случаям общности имущества, не основанным
на договоре (так наз. communio incidens), где критерием ответственности
служит также diligentia quam suis (L. 25 § 16 D. fam. erc. 10. 2).
[761] Признак «rem
tenere domini voluntate»; второму, требуемому Брукнером для ответственности
за custodia признаку (ответственность за culpa levis), мандат удовлетворяет:
мандатар отвечает за легкую вину, несмотря на то, что ввиду бесплатности
мандата, он не извлекает из договора никаких выгод. К следующему ср. Bruckner.
Die Custodia. § 27, стр. 227 сл.; Baron. Arch. T. 52, § 10,
стр. 83–85, Т. 78, § 10, стр. 277 сл.; Pernice. Labeo, II, стр. 299
сл. и 2 изд., II, 2, стр. 190 сл.
[762] Брукнер ссылается
на L. 1 § 12 D. dep. 16. 3 и на L. 51 D. de acq. pos. 41. 2. Но в
первом из этих текстов (на котором придется еще остановиться подробнее)
о пределах ответственности мандатара не говорит вовсе; в крайнем случае
он мог бы быть приводим разве только в доказательство того, что ответственность
эта выше, чем ответственность поклажепринимателя, в чем, однако, и без
того никаких сомнений нет. Что же касается до L. 51 D. cit., то этот фрагмент
вообще никакого отношения к нашему вопросу не имеет, в нем идет речь о
приобретении владения через представителя.
[763] Юстиниан разъясняет
здесь значение основного принципа мандата – бесплатности (in summa sciendum
est mandatum, nisi gratuitum sit, in aliam formam negotii cadere), причем
и указывает на то, что бесплатное исполнение заказа со стороны прача и
портного подходит под понятие мандата, исполнение же за вознаграждение
– под понятие найма. Именно в этом тексте Брукнер, утверждающий, что «источники
нигде не указывают на различие ответственности прача при платном и бесплатном
исполнении заказа», мог бы, напротив того, найти при желании указание
на такое различие.
[764] Arch. T. 78,
стр. 282.
[765] «Было бы в высшей
степени странно, говорит Барон (l. c.), если бы Помпоний имел в виду в
двух отдельных предложениях установить один и тот же факт: что заведомо
недобросовестные действия как коммодатара, так и мандатара лишают их права
на предъявление иска о краже, и если бы Ульпиан точно таким же образом
повторил эти два отдельных предложения; тождественная фактическая обстановка
не нуждается для своей передачи в двух предложениях, и обратно, там, где
мы имеем их два, – там фактическая обстановка случая не может быть тождественна».
Мы лично при всем желании затрудняемся понять, почему Барону такой способ
выражения представляется «в высшей степени странным».