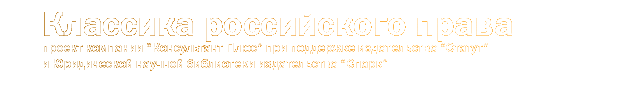Пассек Е.В. Неимущественный интерес и непреодолимая сила в гражданском праве
Раз такое смягчение было признано, положение продавца ad mensuram становилось вполне тождественным положению всех других отвечающих за custodia лиц, почему о нем в равной степени возможно было говорить (что действительно и делают источники) как в том смысле, что он отвечает за omne periculum, так и в том, что он отвечает за custodia, хотя последний способ выражения вполне точным, строго говоря, признан быть не может. Остается добавить только, что если мы говорим о смягчении ответственности продавца, то мы этим никоим образом не имеем в виду утверждать, что было время, когда ответственность его была в полной мере безусловной; это смягчение было, без сомнения, формулировано уже и теми юристами, которыми была установлена конструкция купли-продажи ad mensuram, так что оно возникло одновременно с последней. Ясное указание на это можно видеть в том, что тексты как Ульпиана, так и Павла, относящиеся к ответственности продавца за custodia, взяты из комментариев, писанных этими юристами к Сабину, имя которого приводится, как мы знаем, в качестве авторитета, установившего юридическую конструкцию спорного договора.
Признавая, таким образом, вместе с Бароном ответственность продавца ad mensuram до границ непреодолимой силы, мы должны признать, что отношение это было одним из тех, на которые понятие непреодолимой силы было распространено уже в императорское время[738]; существенное значение имеет, однако, то обстоятельство, что такое распространение было, вопреки мнению Барона, сделано с целью не усилить, а ослабить ответственность должника, следовательно, не удалить, а приблизить ее к ответственности за субъективную вину. Вместе с тем заметим, что этот случай, само собою разумеется, не подходит под схему Брукнера о возложении ответственности за custodia исключительно на тех должников, "qui rem alienam tenent domini volunta-te". Это обстоятельство само по себе еще не предрешает тем не менее вопроса об общем значении формулированного названным автором принципа, а указывает лишь на то, что этому принципу не может быть придаваемо абсолютного характера, по крайней мере для классического римского права[739].
2) По отношению к договору найма (locatio-conductio) данные, указывающие на то, что ответственность должника в руках которого находится на основании этого договора чужая движимая вещь, переходит за пределы ответственности за легкую вину, по меньшей мере настолько же многочисленны и настолько же доказательны, как и те, которые могли быть приведены при рассмотрении договора коммодата[740]. О наличности близкого соотношения между нормами, регулирующими ответственность должников в каждом из этих двух договоров, можно заключить уже и из того, что тексты, говорящие о коммодатаре, неоднократно проводят параллель между этим последним и должниками по одному из видов договора найма: ремесленниками, занимающимися чисткой и стиркой платья (fullones) и починкой его (sarcinatores)[741]. Этот пример относится к типу locatio-conductio operis; не менее точные данные имеются, однако, и по отношению к другому виду найма, к найму вещей (locatio-conductio rei), и если источники не повторяют того же специально еще и по отношению к личному найму (locatio-conductio operarum), то не потому, конечно, чтобы к последнему были применимы какие-либо особые нормы; такое умолчание скорее может быть объяснено тем, что вследствие бытовых условий римской жизни этот вид договора найма был правом вообще мало разработан и что нормы, к нему относящиеся, вообще немногочисленны.
Изложение данных, касающихся договора найма, может для удобства обозрения быть расположено в том же порядке, какой соблюдался при рассмотрении других договоров. На первое место могут быть поставлены тексты, указывающие на наличность повышенной ответственности должника; затем должно быть установлено содержание этой ответственности; в заключение же должны быть рассмотрены те источники, которые говорят в пользу мнения об ответственности здесь должника не свыше чем за легкую вину. При этом следует, однако, заметить, что по отношению к двум первым вопросам нам придется иметь дело с фактами, нам уже хорошо известными из предыдущего; во избежание излишних повторений здесь окажется возможным поэтому ограничиться сравнительно кратким изложением.
В пользу ответственности должника в договоре найма до границ непреодолимой силы могут быть приведены следующие соображения:
А) Целый ряд текстов возлагает на него ответственность за custodia, причем и здесь источники говорят о custodia как о понятии самостоятельном, стоящем рядом с culpa и с diligentia, чем исключается то предположение, что они имеют в виду отметить этим не более как ответственность за culpa in custodiendo[742].
Б) Ответственность должника по договору найма объявляется тождественной той, какую несут судохозяева и содержатели гостиниц: в L. 5 pr. D. naut. 4. 9 Гай говорит это по отношению к fullones и sarcinatores, в L. 14 § 17 D. de furt. 47. 2 Ульпиан повторяет то же по поводу посланного, получающего плату за доставление письма по адресу. Соответственно этому, должник по договору найма относится источниками к числу тех лиц, "quorum periculo res alienae sunt"[743].
В) Что до границ непреодолимой силы отвечает horrearius, в настоящее время может считаться общепризнанным. Между тем источники нигде не указывают на то, чтобы ответственность хозяина товарного склада носила характер аномальный и чтобы он в каком-нибудь отношении занимал особое, сравнительно с другими должниками в locatio-conductio operis, положение. Нет никаких сведений и о том, чтобы границы ее были определены каким-либо особым законодательным актом, аналогичным, например, эдикту de recepto.
Г) По L. 28 C. de loc. 4. 65 должника освобождают от ответственности такие случаи, "сопротивление которым невозможно" (casus, cui resisti non potest). Согласно этому и опять по аналогии с коммодатом § 5 I. de locat. 3. 24 требует от conductor'a такой тщательности в охране вещи, "qualem diligentissimus pater familias suis rebus adhibet"[744].
Что касается до содержания ответственности за custodia в договоре найма, то и оно в свою очередь может быть сведено к последствиям, нам уже известным. На первое место источники и здесь выдвигают безусловную ответственность за утрату вещи посредством кражи и в связи с этим правомочие должника на предъявление иска о краже[745]. Такую же ответственность должник несет и в случае повреждения или уничтожения вещи чужим животным, если то или другое имело место при условиях, обосновывающих иск de pauperie (L. 2 pr. D. si quadrup. 9. 1). В остальном, в частности же за уничтожение и повреждение вещи третьими лицами (область закона Аквилия), должник отвечает лишь в том случае, если наступление ущерба почему-либо может ему быть поставлено в вину[746].
Еще более обширную ответственность, чем та, которая обнимается указанными границами, возлагает на должника по договору найма Барон. По его мнению, conductor отвечает безусловно: во-первых, за всякое повреждение вещи, причиненное теми подчиненными лицами, которыми должник пользуется при исполнении принятой им на себя работы (в locatio-conductio operis); во-вторых, на тех же основаниях должник отвечает и за каждый "случай низшего порядка" (niederer Zufall), т.е. за все те события, которые хотя и не могут быть вменены должнику в вину, но и не могут быть подведены под понятие непреодолимой силы[747]. Этот взгляд Барона и те доказательства, которые могут быть приведены в его подкрепление, требуют более подробного рассмотрения.
Что касается до первого, до ответственности должника за повреждение вещи, причиненные действиями лиц, помощью которых должник пользуется для исполнения принятых им на себя обязанностей, то сам по себе вопрос этот представляет из себя, очевидно, не более как частный случай более широкого, известного в пандектном праве вопроса об ответственности подрядчика и поставщика (conductor operis) за действия подчиненного ему служебного персонала. Будучи формулирован таким образом, вопрос этот, стоящий в связи с толкованием известного текста Дигест (L. 25 § 7 D. loc. 19. 2) и вызвавший целую самостоятельную литературу, далеко выходит за пределы специальной задачи настоящего исследования, и в этом отношении Барон, быть может, вполне прав, указывая на то, что одним из недостатков общей постановки вопроса в предшествующей литературе было смешение в одно двух различных относящихся сюда случаев: ответственности хозяина за неудовлетворительное исполнение его персоналом принятой им на себя работы и ответственности его, в частности, за причиненные этим персоналом повреждения чужой, порученной должнику (хозяину, подрядчику) вещи. Не высказываясь по поводу первого из этих вопросов, как не стоящего в связи с понятием непреодолимой силы, Барон на второй из них признает возможным отвечать в том смысле, что за каждое повреждение вещи, причиненное служебным персоналом (помощниками, Ge-hilfen) подрядчика, этот последний отвечает перед заказчиком безусловно, независимо от того, падает ли на самого подрядчика какая-либо вина в причинении повреждения или нет. В обоснование своего взгляда Барон ссылается на следующий текст:
L. 13 § 5 D. loc. 19. 2. Ulpianus lº. 32 ad edictum. Si gemma includenda aut insculpenda data sit eaque fracta sit, si quidem vitio materiae factum sit, non erit ex locato actio, si imperitia facientis, erit. Huic sententiae addendum est, nisi periculum quoque in se artifex receperat: tunc enim etsi vitio materiae id evenit, erit ex locato actio.
Способ толкования, к которому прибегает Барон для получения нужного ему результата, состоит в том, что под термином "faciens", за неумелость (imperitia) которого в случае порчи вещи контрагент объявляется ответственным в первой половине текста, он понимает не только самого контрагента, но и рабочего, которому ближайшим образом поручено исполнение заказа. Ясное доказательство этого своего предположения Барон усматривает в том, что во второй половине текста сам контрагент назван уже не "faciens", а "artifex", из чего само собою следует, что под этими двумя различными выражениями понимаются и два различных лица. Основываясь на понимаемом таким образом L. 13 § 5 D. cit., Барон применяет затем тот же способ толкования и к спорному тексту Дигест - L. 25 § 7 eod. 19. 2; слова "ipsius eorumque culpa", говорит он, должны быть, очевидно, понимаемы здесь в альтернативном смысле: подрядчик, принявший на себя перевозку колонны, отвечает за поломку ее в том случае, если эта поломка может быть вменена в вину или ему самому, или его рабочим; чтобы отметить это (т.е. ответственность подрядчика за чужую вину, следовательно, за событие, не подходящее под понятие непреодолимой силы), последний текст и освобождает подрядчика от ответственности лишь при том условии "si omnia facta sunt, quae diligen-tissimus quisque observaturus fuisset". Превосходная степень, какой здесь пользуется юрист, и имеет в виду, как и во всех аналогичных случаях, указать на то, что границей ответственности должника является именно непреодолимая сила.
Изложенные доводы едва ли могут быть признаны достаточно убедительными. Прежде всего не только не ясным и не бесспорным, но, на наш взгляд, более чем сомнительным должно быть названо то предположение, что под выражениями "faciens", с одной стороны, и "artifex" - с другой, в L. 13 § 5 D. cit. могут быть понимаемы два отдельных лица. Сомнительно потому, что и предыдущие и последующие параграфы того же фрагмента, все без исключения, посвящены рассмотрению вопроса о том, когда и при каких условиях conductor может быть признаваем ответственным за свои собственные действия, причем общий принцип, здесь проводимый, есть, без сомнения, тот, что он отвечает не более как за culpa[748]. Сообразно этому и то протиположение, на которое обращает внимание § 5 фрагмента, есть противоположение между "imperitia facientis", с одной стороны, и "vitium materiae" - с другой: ремесленник (золотых дел мастер или резчик) отвечает перед заказчиком за повреждение переданного для обработки предмета в том случае, если повреждение имело место вследствие незнания им своего ремесла, но не отвечает, если причиной его были недостатки самого данного для обработки предмета. Что неопытность, незнание ремесленника рассматривается как прямая вина его, разъяснено к тому же категорически в L. 9 § 5 D. eod. 19. 2 (imperitiam culpae adnumerandam: quod imperitia peccavit culpam esse: quippe ut artifex conduxit): норма до такой степени естественная, что вносить сюда какие бы то ни было предположения, в самом тексте не указанные, представляется вполне излишним. Добавление, сделанное к этой норме второй половиной текста и состоящее в том, что принятие на себя ремесленником безусловной гарантии за результат работы делает его и безусловно ответственным перед заказчиком, в свою очередь не может давать места каким-либо недоумениям: о принятии на себя должником риска (periculum) источники упоминают настолько часто, что указание на такое соглашение между заказчиком и рабочим в особой мотивировке не нуждается. Никоим образом нельзя делать из этого, в частности, того заключения, что во второй половине текста должна идти речь о другом лице, чем в первом: само собою разумеется, что ремесленник (artifex), принимающий заказ, принимает его как "artifex", а исполняет как "faciens". К нему, следовательно, в равной степени применимы оба поставленные в тексте термины, и если бы Ульпиан действительно имел в виду говорить здесь о двух различных лицах, то он не мог бы не отметить этого существенного обстоятельства в более ясных выражениях.
Последнее и делает Гай в L. 25 § 7 D. cit. 19. 2, где действительно идет речь об ответственности подрядчика за действия рабочих и где понимание истинного содержания фрагмента зависит от того или другого толкования слов "ipsius eorumque, quorum opera uteretur, culpa". Мы не имеем ни возможности, ни надобности входить здесь в подробное рассмотрение тех разнообразных мнений, которые были высказаны по поводу смысла этого известного в литературе пандектного права текста. Заметим только, что довод, которым Барон пользуется для доказательства того, что здесь устанавливается ответственность должника за нечто большее, чем за собственную вину (указание на пользование превосходной степенью прилагательного diligens), также не может быть признан убедительным до тех пор, пока не будет доказано, что такой оборот имеет техническое значение, что он всегда и везде служит для обозначения факта ответственности должника до пределов непреодолимой силы. Это последнее, однако, не только не доказано Бароном, но и вообще, на наш взгляд, доказано быть не может[749].
Все только что сказанное не направлено, однако, против правильности основного положения об обязанности подрядчика за повреждения вещи, причиненные по вине подчиненного ему персонала. Но старание Барона обосновать такую ответственность именно на понятии custodia и поставить ее, таким образом, в связь с понятием непреодолимой силы, не может быть названо удачным. Такая мотивировка источникам чужда; но допустив даже, что именно только что изложенные тексты действительно могут быть приводимы в подтверждение этой нормы, мы тем более обязаны будем обратить внимание на то, что тексты эти о custodia не упоминают ни одним словом[750]. Сама же по себе ответственность за чужую вину (а дальше этого ответственность подрядчика за действия рабочих во всяком случае не простирается) вовсе не стоит в логически необходимой связи с понятием custodia или непреодолимой силы; вполне возможно отвечать за чужую вину, не отвечая в то же время до пределов vis major или damnum fatale[751].
Еще слабее те доказательства, которые могут быть приведены в пользу ответственности conductor'a за случай. Барон ссылается на два текста Дигест: на L. 13 § 6 D. loc. 19. 2 и на L. 2 pr. D. si quadrup. 9. 1. Второй из этих текстов, устанавливающий безусловную ответственность должника за вред, причиненный вещи чужими животными, нам уже хорошо известен; первый же говорит следующее:
Si fullo vestimenta acceperit eaque mures rоserint, ex locato tenetur, quia debuit ab hac re cavere:
Буквальный смысл текста говорит, по-видимому, не в пользу Барона: fullo не отвечает за повреждение платья потому, что на его обязанности лежало принятие мер к предотвращению такого события; в основание его ответственности кладется, следовательно, обязанность относиться к охране вещи с известной степенью заботливости, несоблюдение которой и заключает в себе ту небрежность, какая может быть поставлена должнику в упрек; должник отвечает за непринятие необходимых мер предосторожности, т.е. за culpa. Последнее Барон и отрицает; для истолкования текста в смысле безусловной ответственности должника он обращает внимание на то, что Ульпиан не оставляет должнику возможности ссылаться в свое оправдание на отсутствие вины со своей стороны; слова "debuit cavere", говорит Барон, указывают именно на то, что должник во всяком случае признается обязанным к возмещению ущерба; он должен был принять надлежащие меры к охране вещи, хотя бы в действительности принятие их было и невозможно. В самом деле, вполне действительной мерой мог бы, думает Барон, служить только непрестанный личный надзор над вещью; все же другие при известных обстоятельствах могли бы оказаться бесполезными, так как "всякому из собственного опыта известно, что мыши появляются совершенно внезапно и что тот же характер внезапности присущ причиняемому ими вреду; с точки зрения осмотрительности осторожного домохозяина должнику, не принявшему предупредительных мер против мышей, часто не может быть сделано никакого упрека".
Примечания:
[738] В императорское
же время, как мы видели выше, была подведена под понятие custodia и ответственность
должника в некоторых случаях инноминатных контрактов.
[739] Выше (C. 265
примеч. 2) было уже отмечено предположение Перниса (Labeo. II, стр. 357)
о том, что в прежнее время, быть может, каждый продавец нес безусловную
ответственность за утрату вещи посредством кражи. Если бы это было так,
то в таком факте нельзя было бы не усмотреть следов ответственности любого
продавца до границ непреодолимой силы. Текст, на который указывает Пернис
(L. 15 § I D. de peric. et. com. 18. 6), принадлежит Алфену Вару
(в передаче Павла) и говорит: «Materia empta si furto perisset, postquam
tradita esset, emptoris esse periculo respondit, si minus, venditoris:
videri autem trabes traditas, quas emptor signasset». Пернис и сам, однако,
указывает на то, что этот текст теряет всякое значение для нашего вопроса,
если отнести рассматриваемый в нем случай (ввиду выражения «materia»)
к купле-продаже генерических вещей. Вторая половина текста действительно
дает основание заключить, что состоявшийся договор был куплей-продажей
определенного числа балок из целой массы товара – один из видов купли-продажи
generis. Предположение о том, что продавец в старое время нес безусловную
ответственность за кражу, непримиримо с правилом «periculum est emptoris»,
которое также ни в каком случае не нового происхождения. Ср. Baron. Arch.
T. 78, стр. 272 сл.; Bruckner. Die Custodia, стр. 252.
[740] К следующ. ср.
Baron. Arch. T. 52, § 7, стр. 73 сл.; Т. 78, § 5, стр. 252 сл.;
Bruckner. Die Custodia, § 26, стр. 216 сл.; Pernice. Labeo. II, cтр.
350–353. Слишком односторонне и далеко не полно излагает данный вопрос
Gerth. Vis major, § 6, стр. 61 сл.
[741] Ср. выше, С.
300 и тексты, цитированные в следующ. примеч. 1 и 2 на С. 357. Барон делает
из этого частого сопоставления коммодатара с fullones и sarcinatores тот
вывод, что нормы об ответственности до границ непреодолимой силы первоначально
были выработаны именно в области договора найма и отсюда уже перенесены
были на другие виды обязательств, прежде всего на коммодат. Насколько
это мнение может быть признано обоснованным, подробнее будет рассмотрено
в вопросе о происхождении понятия непреодолимой силы. Ср. пока исследование
Брукнера (1. c. cтр. 207).
[742] Ср. § 16
(18) I. de obl. ex del. 4. 1 (= Gai. 3 § 206), L. 5 pr. D. naut.
4. 9; L. 5 § 15 D. commod. 13. 6; L. 12 pr.; L. 48 § 4 D. de
furt. 47. 2; L. 28 C. loc. 4. 65.
[743] L. 12 pr.; L.
14 §§ 16, 17 D. de furt. 47. 2. Это приравнение ответственности
должника по договору найма к ответственности из receptum представляет
затруднения в том отношении, что делает на первый взгляд непонятными мотивы
издания эдикта о повышенной ответственности судохозяев и содержателей
гостиниц: почему, спрашивает Виндшейд (Pandekt., § 401, примеч. 2),
могла оказаться надобность в издании подобного эдикта для отдельных лиц,
если conductor operis и без того отвечал до границ непреодолимой силы?
Не будь этого, Виндшейд, по-видимому, был бы склонен признать доказательную
силу цитированных текстов, так как толкование, которое он принужден им
давать, он сам признает натянутыми (hart). Объяснение этого действительно
существенного пункта пытается дать Lehman. Die Haftung des conductor operis
für custodia ( Ztschrft. d. Sav.-Stiftg. T. IX, стр. 110 сл.). С
выводами его, однако, мы лично согласиться не можем; развитие права, на
наш взгляд, имело место в направлении, противоположном тому, какое предполагается
Леманом.
[744] В приведенных
текстом случаях найма вещей (usus vestimentorum aut argenti aut jumenti)
Барон первоначально видел только отдельные исключения, впоследствии же
он дает этим случаям значение примеров (ср., с одной стороны, Arch. T.
52, стр. 74, с другой – Т. 78, стр. 257 в к., 258). Последнее, без сомнения,
правильно: трудно было бы указать достаточные основания в пользу установления
повышенной ответственности именно для взятого напрокат платья, серебряной
посуды и для найма вьючных животных; первоначальные мотивы Барона во всяком
случае неубедительны.
[745] § 15 (17)
I. de obl. ex del. 4. 1 (= Gai. 3 § 205), L. 12 pr., L. 14 §§
16, 17 D. de furt. 47. 2; об actio vi bonorum raptorum ср. L. 2 §§
22, 23 D. h. t. 47. 8.
[746] L. 19 D. commod.
13. 6; L. 41 D. loc. 19. 2; L. 9 § 3; L. 11 pr., § 2; L. 13
§§ 7, 8; L. 19 §§ 2, 4 D. loc. 19. 2; L. 13 pr. –
§ 4 D. eod. 19. 2.
[747] Baron. Arch.
T. 78, стр. 226 сл., 256 сл.; надо заметить, однако, что действия третьих
лиц, не могущие быть вмененными этим последним в вину, Барон под понятие
случая принципиально не подводит.
[748] Ср. «temperare
enim debuit» в pr. L. cit.; «si culpa caret, non teneri» в § I; «sine
gubernatore» в § 2; «peregre ducere» в § 3; «hunc modum non
tenuisse» в § 4 и т.д.
[749] То обстоятельство,
что критерий diligentiae diligentissimi patris familias стоит в известной
связи как с ответственностью за custodia, так и с понятием непреодолимой
силы, само по себе не подлежит сомнению; с этим явлением мы уже имели
случай встречаться и выше. Вопрос, однако, не в этом, а в том, так ли
тесна и безусловна эта связь, чтобы она давала право утверждать, как это
делает Барон, что везде, где источники пользуются выражениями «diligentia
exacta», «exactissima», «diligentissimi patris familias» и т.п., они имеют
в виду указать на то, что в данном случае должник освобождается от ответственности
только наступлением непреодолимой силы.
[750] О том, что указания
на это нельзя видеть в «diligentissimus quisque» текста, см. предыдущее
примеч.
[751] Наглядный пример
такого отсутствия связи между этими двумя принципами дает именно общепризнанная
и бесспорная область применения понятия непреодолимой силы – receptum
nautarum, cauponum, stabulariorum; ср. выше.