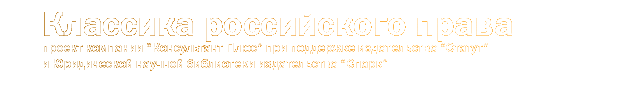Пассек Е.В. Неимущественный интерес и непреодолимая сила в гражданском праве
Конструкция этой своеобразной формы договора купли-продажи не могла представить значительных затруднений для юристов. Основное условие действительности сделки - соглашение сторон относительно объекта ее и продажной цены - здесь, без сомнения, налицо имеется, но по отношению как к объекту, так и к цене неизбежны были сомнения в том, достаточно ли определено и то и другое, а в зависимости от этого неизбежны были сомнения и относительно момента, в который договор должен считаться вступившим в окончательную силу и в который, следовательно, риск переходит на покупателя. Общие условия этого момента определены римским правом следующим образом: "Si id quod venierit appareat quid quale quantum sit, sit et pretium, et pure venit, perfecta est emptio"[725]. В данном случае из этих трех требований, касающихся объекта договора (quid quale quantum), не удовлетворено последнее: известно, что именно продано, известно качество проданного, но не известно его количество. Неопределенность последнего пункта вносит неопределенность и в другой из двух необходимых элементов соглашения: покупатель, зная, сколько он должен уплатить за единицу, служащую для измерения купленных вещей, не знает и не может знать, однако, какой суммы достигает вся подлежащая с его стороны уплате покупная цена: с этой точки зрения цена эта не может, следовательно, считаться твердо и окончательно установленной ("sit et pretium" приведенного текста).
С другой стороны, однако, не могло не быть обращено внимания на то, что неопределенность и в том и в другом отношении (и по отношению к объекту и по отношению к цене) носит в данном случае не объективный, а субъективный характер: ввиду того, что если не точное количество продаваемых объектов, то по крайней мере общая совокупность их все же определена индивидуально (все зерно данного амбара, все вино данного погреба и т.п.), - оба пункта, к которым по условиям соглашения относится эта субъективная неопределенность, сразу устраняются актом взвешивания, подсчета или измерения проданного количества заменимых вещей. С допущением действительности таких обозначений покупной цены, как, например, "quanti tu eum emisti", "quantum pretii in arca habeo", "erit tibi emptus tanti, quanti a testatore emptus est"[726], не могло остаться сомнений и в допустимости купли-продажи ad mensuram, к которой также вполне подходит мотивировка, оправдывающая в L. 7 § I D. cit. возможность описательного обозначения цены: "magis enim ignoratur, quanti emptus sit, quam in rei veritate incertum est".
О том, что по отношению к купле-продаже описанного вида сомнения в свое время действительно существовали, сведения об этом еще сохранились в источниках. Возможно и вероятно, что вопрос этот был предметом спора между обеими школами римских юристов, причем, однако, остается неизвестным, касался ли этот спор основного вопроса о действительности самого соглашения или же только вопроса о моменте перехода риска на покупателя. Во всяком случае L. 35 § 5 D. de contr. empt. 18. I сообщает, что под влиянием авторитета Сабина и Кассия последнее было решено в том смысле, что риск переходит на покупателя с момента точного определения количества проданных заменимых вещей (tunc perfici emptionem: cum adnumerata admensa adpensave sint); невыработанность вполне ясного взгляда на сущность сделки отражается тем не менее еще и позже в том, что до этого момента юристы затрудняются определением ее точной конструкции: Сабин и Кассий называют ее заключенной "как бы" под условием (venditio quasi sub hac conditione videtur fieri), другие же выражаются еще более неопределенно, Ульпиан, например, в L. I § I D. de peric. et com 18. 5 говорит, что до момента отмеривания "вещь как бы вовсе еще даже и не продана" (priusquam enim admetiatur vinum, prope quasi nondum venit). Во всяком случае, после того, как соглашение относительно момента перехода риска было юристами достигнуто, отношения сторон имеют следующее содержание: заключением соглашения относительно проданного объекта и цены (за единицу измерения) стороны уже связаны, но договор купли-продажи считается заключенным как бы под условием, а именно под тем, что точное определение количества товара, а в зависимости от этого и точное определение покупной цены будет произведено впоследствии (измерением, взвешиванием или счетом); только с этого последнего момента купля-продажа вступает в окончательную силу (perfecta est emptio) и риск переходит на покупателя.
Отсюда само собою следует, что в промежуток времени между заключением первоначального соглашения и вступлением договора в окончательную силу риск (periculum rei) лежит на продавце; в этом отношении к данному частному случаю применяется лишь общее правило, установленное для всех случаев купли-продажи, заключенной под суспенсивным условием. В одном пункте, однако, emptio ad mensuram все же отличается от купли-продажи под условием: продавец до момента вступления договора в окончательную силу несет здесь в равной степени риск как полного уничтожения вещи (periculum interitus), так и ухудшения ее (periculum deteriorationis), между тем как при купле-продаже под суспенсивным условием periculum deteriora-tionis лежит тем не менее на покупателе[727]. Продавец, следовательно, в emptio ad mensuram не освобождается от лежащих на нем по договору обязанностей ни случайным уничтожением, ни случайным ухудшением вещи; и в том и в другом случае он отвечает перед покупателем за весь ущерб, который возникает для последнего из этих событий.
Может ли при этих условиях иметь значение еще и вопрос о том, насколько тщательные меры принимались продавцом к охране проданных вещей от уничтожения и от повреждения? Вопрос о том, отвечает ли он перед покупателем только за вину или за нечто большее и если только за вину, то за какую именно степень ее? Все эти вопросы по-видимому, вполне безразличны: возложение на продавца несения всего риска уже само по себе решает их в том смысле, что большая или меньшая тщательность продавца в охране вещи, виновность или невиновность его в уничтожении или в ухудшении последней значения не имеют; от ответственности перед покупателем продавец ни в каком случае не освобождается, как не освобождается покупатель от ответственности перед продавцом в том случае, когда periculum est emptoris.
В противоположность этим априорным выводам, основанным на общей структуре купли-продажи ad mensuram, могут быть, однако, указаны тексты, возлагающие на продавца, сверх того, еще и ответственность за custodia проданных вещей. Этих текстов три:
L. I § I D. de peric. et com. 18. 6. Ulpianus lº. 28 ad Sa-binum. Sed et custodiam ad diem mensurae venditor praestare debet: priusquam enim admetiatur vinum, prope quasi nondum venit. Post mensuram factam venditoris desinit esse periculum: et ante mansuram periculo liberatur, si non ad mensuram vendidit, sed forte amphoras vel etiam singula dolia.
L. 2 § I D. eod. Gajus lº. 2 cottidianarum rerum. Custo-diam autem ante admetiendi diem qualem praestare venditorem opor-teat, utrum plenam, ut et diligentiam praestet, an vero dolum dumtaxat, videamus. Et puto eam diligentiam venditorem exhibere debere, ut fatale damnum vel vis magna sit excusatum.
L. 3 D. eod. Paulus lº. 5 ad Sabinum. Custodiam autem venditor talem praestare debet, qualem praestant hi quibus res commo-data est, ut diligentiam praestet exactiorem, quam in suis rebus adhi-beret.
Приведенные тексты и возбуждают ряд вопросов, из которых каждый требует особого рассмотрения. Во-первых, какое значение может вообще иметь ответственность за custodia там, где на должнике и без того лежит несение всего риска? Во-вторых, о какой custodia идет здесь речь, о custodia ли в техническом смысле слова, т.е. об ответственности до границ непреодолимой силы или же о custodia в смысле diligentia in custodiendo и об ответственности за culpa in custodiendo? И в-третьих, если продавец действительно несет ответственность за custodia, то каким образом может быть объяснено появление последней и выделение ее из общего состава безусловного риска (omne periculum), лежащего на продавце по самому существу договора?
Что касается до первого, то ответ на него дается обыкновенно в том смысле, что при неисполнении продавцом лежащих на нем и основанных на custodia обязанностей он обязан возместить покупателю весь ущерб, возникающий для последнего из неисполнения договора; в противном же случае продавец хотя и лишается права на требование с покупателя условленной цены, но никакой дальнейшей ответственности перед ним не несет. Это объяснение, принятое Брукнером[728], могло бы быть признано правильным лишь при том предположении, что несомый продавцом риск действительно сводится только к лишению права требовать уплаты цены в случае уничтожения или ухудшения проданного объекта. Именно это, однако, доказано быть не может. Источники такого ограничения в понятие несомого продавцом риска нигде не вносят[729], и мы имеем поэтому все основания думать, что ответственность за ущерб, происходящий для покупателя от неисполнения договора, является прямым последствием лежащего на продавце риска и не нуждается еще в особом обосновании посредством возлагаемой на него, сверх того, ответственности за cusstodia. Если же это так, то истинное отношение этих двух моментов должно быть иным.
Второй наиболее для нас существенный вопрос о том, в каком смысле должен быть понимаем термин custodia в приведенных текстах, и является спорным между Бароном и остальными авторами. Барон признает на основании этих текстов продавца ad mensuram ответственным до границ непреодолимой силы, между тем как все другие, не исключая на этот раз и Брукнера, понимают здесь выражение custodia в смысле обычной diligentia in custodiendo[730]. Нам лично казалось бы, что все данные говорят скорее в пользу мнения Барона, чем в пользу его противников.
В этом отношении менее всего доказательной силы имеет, конечно, L. I § I D. cit. 18. 6 Ульпиана. Юрист ограничивается здесь простым констатированием того факта, что продавец ad mensuram отвечает за custodia до того дня, когда будет произведено точное измерение проданного объекта (sed et custodiam ad diem mensurae venditor praestare debet). Редакция этого текста не раз ставилась Ульпиану в упрек и действительно не может быть названа удачной; его замечание об ответственности продавца за custodia появляется неподготовлено и немотивировано среди рассуждений о том, какая из сторон и в каких именно случаях несет риск (periculum) в договоре купли-продажи; а само замечание мотивируется тем, по-видимому вовсе к нему неподходящим соображением, что находящаяся в руках продавца вещь им как бы вовсе еще и не продана[731]. Все это не уничтожает, однако, наличности того факта, что Ульпиан упоминает о custodia как об обязанности, лежащей на продавце ad diem mensurae; эти и все, что дает текст, так как в дальнейшие разъяснения относительно содержания этой обязанности юрист не входит.
Равным образом остается сомнительным, в каком отношении стоит к нашему вопросу и L. 3 D. eod. 18. 6. Прежде всего содержание текста не дает возможности установить, говорит ли здесь Павел об ответственности продавца в договоре купли-продажи вообще, или же и он имеет в виду специально куплю-продажу ad mensuram. Многое, правда, говорит в пользу второго из этих предположений. Барон не без основания указывает на то, что, во-первых, все первые шесть фрагментов титула de periculo et commodo относятся к случаям купли-продажи вина в ее различных формах (обыкновенной, emptio ad gustum и emptio ad mensuram) и что, во-вторых, как непосредственно предшествующий L. 2 § I D. eod. (Гая), так и заимствованный из той же пятой книги комментария Павла к Сабину L. 5 D. eod. относятся именно к купле-продаже вина ad mensu-ram; к этим доводам можно добавить разве только еще один: делаемое Павлом сравнение осмотрительности (diligentia), требуемой от продавца, с осмотрительностью, требуемой от коммодатара, - сравнение с коммодатом, как мы уже не раз видели, есть один из обычных приемов для указания на ответственность за custodia[732]. Но все эти косвенные доказательства абсолютно убедительными, само собою разумеется, признаны быть не могут. Если же, несмотря на приведенные доводы, мы согласимся с теми, кто, как, например, Пернис, отрицает, что Павел имел здесь в виду emptio ad mensuram, то мы вместе с тем должны будем понимать под той custodia, о которой говорит юрист, не более как простую diligentia in custodiendo.
Решающее для всего вопроса значение имеет, на наш взгляд, последний из имеющих к нему отношение текстов - L. 2 § I D. eod., где границей требуемой Гаем от продавца ad mensuram тщательности в охране вещи ставится непреодолимая сила (et puto eam diligentiam venditorem exhibere debere, ut fatale damnum vel vis magna sit excusa-tum), причем употребленный здесь термин "diligentia" есть замена выражения custodia, стоящего в начале текста. Мы опять имеем, следовательно, дело с явлением нам уже хорошо знакомым: custodia граничит непосредственно с vis major и тот, кто отвечает за custodia, освобождается от ответственности только случаями непреодолимой силы.
Надо сознаться, однако, что и противникам взгляда об ответственности продавца ad mensuram до границ непреодолимой силы Гай дает в распоряжение достаточные аргументы. Задавшись вопросом o том, за какую custodia отвечает продавец до дня измерения, Гай дальше поясняет его следующим образом: "Utrum plenam (custodiam), ut et diligentiam praestet (venditor), an vero dolum dumtaxat". Такое противоположение, ставящее, с одной стороны, dolus, с другой - custodia plena (т.е. со включением diligentia), не может не произвести того впечатления, что Гай в сущности имеет в виду не более как обыкновенно противополагаемую злому умыслу легкую вину, сводя этим всю ответственность продавца за custodia к ответственности за culpa in custodiendo. То или другое толкование текста зависит, следовательно, от того, на какую часть его предпочитает опереться тот или другой автор. Нас вынуждает присоединиться к мнению Барона категорическое упоминание Гая о damnum fatale и о vis major, как о границе ответственности продавца; этот факт не может быть устранен никакими толкованиями[733]. Нельзя тем не менее не согласиться и с тем, что предыдущее рассуждение Гая о custodia plena и о diligentia с этой точки зрения должно представлять немалые затруднения, для избежания которых мы менее всего склонны прибегать к не новому уже приему упрека римскому юристу в неточной редакции и в неудачном способе выражения своих мыслей. Нам казалось бы, что такое явление, с которым в вопросе о custodia приходится встречаться едва ли не на каждом шагу, требует более глубого объяснения, и мы лично усматриваем его в стремлении римской юриспруденции подвести безусловную ответственность должника за известные события, сохранившуюся от старого права, под новые, последовательно проводимые юристами в жизнь принципы ответственности, построенной на моменте субъективной вины. Затруднения, и притом непреодолимые, были при этом неизбежны потому, что недостижимой была сама преследуемая цель: безусловная ответственность и принцип вины суть величины несоизмеримые. Эти затруднения и отражаются поэтому везде, где у классических юристов идет речь о формулировке понятия custodia. Весь процесс идет при этом в сторону вытеcнения из действующего права прежней безусловной ответственности ряда должников.
Остается, таким образом, ответить на вопрос о том, чем объясняется появление ответственности продавца ad mensuram за custodia и в каком отношении стоит последняя к несомому продавцом общему риску из договора. Ответ на это дается сам собою, если обратить внимание на то, что правило, в силу которого продавец освобождается от лежащих на нем обязанностей случаями непреодолимой силы, было для него отнюдь не повышением, а, напротив того, понижением возложенной на него ответственности. В самом деле, Брукнер не без основания затрудняется указать причину, по которой к продавцу ad mensuram право могло бы относиться строже, чем ко всякому другому, и почему момент вступления договора в окончательную силу должен был бы в данном случае облегчать положение должника вместо того, чтобы связать его еще сильнее[734]. Барон отвечает на это, что римские юристы, без сомнения, установили бы строгую ответственность и для всех случаев купли-про-дажи, если бы не были лишены к этому возможности существованием правила "periculum est emptoris"; в emptio ad mensuram риск на покупателя не переходит, почему юристы и не замедлили возложить здесь на продавца ответственность за custodia в техническом смысле слова[735]. Барон исходит при этом из своей основной точки зрения о стремлении римской юриспруденции расширять область применения понятия непреодолимой силы и строгой ответственности различных должников все дальше и дальше, но именно эта основная точка зрения Бароном не доказана, но, на наш взгляд, и доказана быть не может.
Для данного частного случая объяснение, как нам кажется, может быть дано много более естественное, если обратить внимание на то, что по неоднократно формулированному в источниках правилу в купле-продаже ad mensuram риск возлагается на продавца с самого момента заключения договора. Едва ли для этого правила требовалось когда-либо еще и особое обоснование - оно есть естественное последствие той конструкции отношения, в силу которой договор признавался заключенным "как бы под условием". Вследствие того что в окончательную силу купля-продажа вступившей еще не считалась и того, что продавец продолжал оставаться собственником проданных им вещей - возложение на него риска является в сущности не чем иным, как применением общей нормы "casum senit dominus", не затрагивающей, конечно, других обязанностей, лежащих на продавце по отношению к покупателю, между прочим, и обязанности его к возмещению последнему ущерба в случае неисполнения договора[736]. Юристам нетрудно было заметить, однако, что вполне последовательное проведение этого взгляда поставило бы продавца ad mensuram в несравненно худшее положение, чем какого бы то ни было другого должника в контрактах bonae fidei, не говоря уже о других случаях купли-продажи. Ответственность его была поэтому смягчена по аналогии с другими случаями несения должником риска в том направлении, что из нее были изъяты случаи непреодолимой силы[737].
Примечания:
[725] L. 8 pr. D. de
peric. et com. 18. 6.
[726] L. 7 § I,
L. 37 D. de contr. empt. 18. I.
[727] Вопрос этот по
отношению к emptio ad mensuram, как известно, в чрезвычайной степени спорен
(литература его приведена у Виндшейда – 8 изд. – § 390, примеч. 14).
Решающими для нас являются следующие соображения: 1) L. 35 § 7 D.
de contr. empt. 18. 1 и L. 5 D. de peric. et сom. 18. 6 возлагают на продавца
в подобного рода случаях ответственность за omne periculum; 2) L. 2 pr.
C. de peric. et. com. 4. 48 категорически высказывается в том смысле,
что в такого рода продаже «periculum vini mutati emptoris… non fuit»,
причем § 3 eod. распространяет это правило на все аналогичные случаи
ухудшения проданных вещей; 3) если бы periculum deteriorationis лежало
на покупателе, то emptio ad mensuram не отличалась бы от других случаев
условной купли-продажи ничем и юристам не было бы никакого основания указывать
на то, что здесь «res prope quasi nondum venit».
[728] Die Custodia,
стр. 247 сл. Само по себе оно не ново – Glück. Pandekt.-Comment.
XVII, стр. 176 сл.
[729] Приводимая обыкновенно
ссылка на L. II D. de peric. et com. 18. 6 не может быть признана доказательной.
Прежде всего здесь идет речь о несомненном случае непреодолимой силы (inundatio
aquarum, chasma). Затем вопрос касается не уничтожения и не ухудшения,
а уменьшения проданного ad mensuram объекта; это обстоятельство, необходимо
отражаясь на уменьшении подлежащей уплате цены, не может, однако, давать
покупателю права требовать еще и возмещения ущерба. Ср. Bruckner, l c.
стр. 248 в конце, 249.
[730] К следующ. ср.
Baron. Arch. T. 52, стр. 62 сл.; Т. 78, стр. 270 сл.; Pernice. Labeo.
II, стр. 356 сл.; Bruckner. Die Custodia, стр. 245 сл. Предшественниками
Барона были и здесь те из старых юристов, которые признавали продавца
ad mensuram ответственным за culpa levissima; ср. Glück. Pandect.-Comment.
XVII, стр. 179 сл., а также и Löhr. Beiträge z. Theorie d. Culpa,
стр. 185 сл., 197 сл., в основании господствующего мнения лежат выводы
Hasse (Die Culpa, § 90, стр. 342 сл.). Что касается, в частности,
до Брукнера, то он не мог бы признать продавца ответственным за custodia
в техническом смысле слова уже потому, что этим он стал бы в противоречие
со своим основным принципом, в силу которого за такую custodia могут отвечать
только те, «qui rem alienam tenent domini voluntate».
[731] Пернис (I. с.,
стр. 359, примеч. 53) говорит поэтому о «крайне неудовлетворительном разъяснении
(klägliche Auseinandersetzung) Ульпиана, смешивающего в одно ответственность
за custodia и periculum». Брукнер (I. с. стр. 250, примеч. 1) допускает
предположение, что или в тексте заключается какой-либо пропуск, или же
все предложение (sed et… praestare debet) должно быть рассматриваемо как
бы стоящим в скобках. Возможно, что вся запутанность изложения объясняется
неудачной передачей Ульпианом текста Сабина. Ср., однако, ниже, С. 354
примеч. 1.
[732] С этой точки
зрения не имеет значения и заключительное пояснение Павла «ut diligentiam
praestet exactiorem, quam in suis rebus adhiberet»; следует, напротив
того, отметить буквальное совпадение этого пояснения с тем, что говорит
и Гай об ответственности коммодатара (L. I § 4 D. de O. et A. 44.
7).
[733] Пернис (1. c.,
стр. 359, примеч. 53) обращает внимание исключительно на противоположение
между diligentia и dolus, оставляя заключительные слова Гая без разъяснения.
Брукнер (1. c., стр. 264) объясняет их желанием Гая указать на то, что
только при наличности непреодолимой силы должник наверное освобождается
от ответственности, так как здесь от него не требуется доказательств того,
что он относился к охране вещи с надлежащей тщательностью; во всех же
остальных случаях это доказательство могло бы оказаться и неудачным.
[734] Bruckner. L.
c., стр. 251.
[735] Baron. Arch.
T. 78, стр. 271.
[736] С этой точки
зрения может получить иной вполне рациональный смысл и странная на первый
взгляд мотивировка Ульпиана в L. I § I D. cit. 18. 6 факта несения
продавцом риска тем, что «res prope nondum venit»: продавец ad mensuram
несет весь риск именно потому, что он еще «как бы полный собственник вещи».
[737] За которую не
отвечал никто из тех «ad quos periculum rerum pertinet», за которую не
отвечают даже и nautae, caupones, stabularii, несмотря на абсолютную,
по-видимому, формулировку относящейся к ним нормы эдикта.