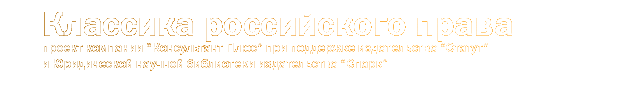Пассек Е.В. Неимущественный интерес и непреодолимая сила в гражданском праве
По отношению к ручному закладу не оказывается, таким образом, налицо ни одного из тех последствий частного характера, которые отличают ответственность до границ непреодолимой силы. К сказанному остается поэтому добавить, что в полном соответствии со всем изложенным стоят еще и те тексты, в которых ответственность залогодержателя и принципиально определяется как не выходящая за обычные пределы ответственности за легкую вину. Сюда относятся, например, L. 14 D. de pigner. act. 13. 7, где Павел требует от залогодержателя исполнения того, "quae diligens pater familias in suis rebus praestare solet"; L. 9 § 5 D. de reb. auct. judic. possid. 42. 5, где Ульпиан определяет обязанности залогодержателя в том смысле, что он "non tantum dolum, verum culpam quoque debet"[713]. Наиболее ясную формулировку этого принципа дает, однако, § 4 I. quib. mod. re. 3. 14, говорящий следующее:
Creditor quoque qui pignus accepit re obligatur, qui et ipse de ea ipsa re quam accepit restituenda tenetur actione pigneraticia. Sed quia pignus utriusque gratia datur, et debitoris, quo magis ei pecunia cre-deretur, et creditoris, quo magis ei in tuto sit creditum, placuit suffice-re, quod ad eam rem custodiendam exactam diligentiam adhiberet: quam si praestiterit et aliquo fortuitu casu rem amiserit, securum esse nec impediri creditum petere.
Приведенным текстом институций пользуются, правда, в подтверждение своего взгляда и сторонники мнения о повышенной ответственности залогодержателя[714], основываясь при этом на том предположении, что выражение "exacta diligentia" (вместо diligentia просто) и есть прямое указание на такое повышение ответственности[715], а выражение "fortuitus casus" - есть не что иное, как синоним непреодолимой силы (vis major). Едва ли возможно, однако, сомневаться в том, что весь ход развития мысли Юстиниана указывает на правильность противоположного заключения. Независимо от того, что различие понятий "exacta diligentia" и diligentia просто едва ли может быть доказано[716], точно так же, как не может быть доказано и тождество выражений "fortuitus casus" и "vis major", - объем ответственности залогодержателя выводится здесь на основании известной схемы распределения прав и обязанностей между сторонами соответственно выгодам, извлекаемым им из юридического отношения. Мотивом к ответственности залогодержателя за exacta diligentia приводится то соображение, что "pignus utriusque gratia datur"; один этот факт, т.е. отнесение заклада к тем контрактам "in quibus utriusque utilitas versatur", достаточно обосновывает то заключение, что Юстиниан никоим образом не имеет в виду делать залогодержателя ответственным за что-либо большее чем за culpa levis[717].
В общем выводе мы приходим, следовательно, к тому результату, что уже в классическом праве, не говоря о праве Юстиниана, ответственность залогодержателя не переходит за обычные пределы легкой вины. Вместе с тем мы считаем, однако, достаточно обоснованным то предположение, что в более раннюю эпоху развитие права ответственности его шла дальше: целый ряд данных указывает на то, что в прежнее время залогодержатель отвечал за custodia до границ непреодолимой силы[718]. Ослабление ответственности залогодержателя было достигнуто деятельностью юристов и представляет из себя один из частных примеров последовательного распространения принципа субъективной вины на отдельные юридические отношения. На этот ход развития и указывает выражение "placuit sufficere", которым пользуется Юстиниан в § 4 I. cit. 3. 14 и объяснение которого создает такие затруднения как Барону, так и Брукнеру[719]: вопрос об ответственности залогодержателя действительно в свое время был спорным и подвергался обсуждению юристов, в результате которого (на что и указывает термин "placuit") он был решен в благоприятном для залогодержателя смысле.
4) В области инноминатных контрактов ответственность за custodia признается Брукнером[720] для всех тех случаев, в которых находятся налицо два, по его мнению, необходимых условия такой ответственности: "rem tenere domini voluntate" со стороны должника и обязанность последнего отвечать по общим условиям данного юридического отношения за culpa levis. Не так далеко, как Брукнер, идет в этом направлении Барон. Признавая коммодат одним из тех обязательств, на которые установленная эдиктом de recepto и распространенная впоследствии юристами на другие юридические отношения повышенная ответственность была перенесена раньше всего, Барон ограничивается тем, что под одни правила с коммодатом подводит и все "аналогичные коммодату сделки" (commodatähnliche Geschäfte), опираясь при этом на те же тексты, на которые ссылается и Брукнер[721].
Если не для действующего, то для чисто римского права мнение Брукнера, будь оно достаточно обоснованно, имело бы огромную важность: ответственность за custodia должна была бы в таком случае охватывать огромное число юридических отношений, в которых о наличности повышенной ответственности никаких предположений до настоящего времени не возникало. Вместе с тем мы могли бы ожидать, что именно по отношению к инноминатным контрактам, теория и практика которых вырабатывается римским правом сравнительно поздно, до нас дошли бы более точные данные относительно характера и условий ответственности за custodia: установление норм, касающихся новых в области права явлений, естественно, должно было бы дать более поводов к сомнениям, колебаниям и несогласиям, следы которых и сведения о которых сохранились бы в источниках.
В действительности источники по отношению к этому вопросу до крайности скудны, и тексты, на которые могут опереться Брукнер и Барон, не только не содержат в себе каких-либо общих принципов, дававших бы право на сколько-нибудь широкие обобщения, но, напротив того, и сами по себе способны возбуждать немаловажные сомнения. Таких текстов три: L. 10 § I D. commod. 13. 6; L. 17 § 2 и L. 17 § 4 D. de praescr. verb. 19. 5.
В первом из них (в L. 10 § I D. cit.) рассматривается вопрос об ответственности осмотрщика (inspector), которому вещь передана, как это видно из дальнейшего изложения, для осмотра и оценки ее с целью продажи. В основание ответа кладется и здесь, как во многих других случаях, соображение о том, которая именно из двух сторон извлекает пользу из состоявшейся между ними сделки. Если вещь передана исключительно в интересах ее собственника, например, только для определения ее стоимости (dum volo pretium exquirere), то осмотрщик отвечает не более как за dolus (потому, поясняет L. 17 § 2 i. f. D. cit. 19. 5, что возникшее отношение имеет при этом условии почти полную аналогию с договором поклажи, quia prope depositum hoc accedit). Если же в соглашении заинтересован осмотрщик, то он отвечает и за custodia, почему признается управомоченным и к предъявлению иска о краже[722].
Остается сомнительным, отвечает ли осмотрщик за custodia лишь в том случае, если вещь передана ему исключительно в его собственном интересе, или же такую ответственность юрист возлагает на него и тогда, когда сделка состоялась в интересах обеих сторон. Исходная точка всего рассуждения Ульпиана (si rem inspectori dedi, an similis sit ei cui commodata res est, quaeritur) говорит скорее в пользу первого предположения; полной уверенности в правильности его текста, однако, не дает и остающееся по отношению к этому пункту сомнение не решается, к сожалению, и вторым из относящихся сюда текстов (L. 17 § 2 D. cit. 19. 5), где тот же Ульпиан устанавливает ответственность осмотрщика для обоих остающихся возможными случаев распределения интересов сторон (sive ipsius causa inspiciendum dedi sive utriusque) в том смысле, что ответственность последнего распространяется на злой умысел и на вину (et dolum et culpam mihi praestandam esse dico propter utilitatem, periculum non). Здесь ответственность за custodia отрицается, по-видимому, в противоположность L. 10 § I D. cit., даже и для того случая, когда вещь передана осмотрщику исключительно в его собственном интересе.
Наименьшие сомнения возбуждает последний из цитированных текстов: L. 17 § 4 D. cit. 19. 5. Вещь, о продаже которой ведутся переговоры между сторонами, оставлена продавцом по просьбе покупателя в руках последнего, с целью дать ему возможность показать ее понимающим дело лицам (ut peritioribus ostenderem). Недолго спустя, вещь погибает от воздействия непреодолимой силы (vi ignis aut alia majore); за такую утрату покупатель не отвечает ни в каком случае (periculum me minime praestaturum); но отсюда само собою следует, замечает в заключение Ульпиан, что он во всяком же случае несет ответственность за custodia (ex quo apparet utique custodiam ad me pertinere).
Содержание изложенного текста, представляя из себя еще одно доказательство того факта, что ответственность за custodia граничит непосредственно с понятием непреодолимой силы, не может, однако, быть приводимо в подкрепление того соображения, что такая ответственность возлагается на контрагента и в том случае, если сделка совершена в интересах обеих договаривающихся сторон: цель оставления вещи в руках предполагаемого покупателя (ut peritioribus ostende-rem), очевидно, имеет в виду главным образом интерес последнего (определение возможно выгодной для него покупной цены).
Остается, таким образом, сомнительным, становится ли контрагент ответственным за custodia во всех рассмотренных источниками случаях только при том условии, что договор, сопровождавшийся передачей вещи, был заключен исключительно в его интересе, или же он несет такую ответственность и тогда, когда сделка совершена "utriusque gratia". Ввиду этого и приобретает особое значение отмеченное выше противоречие между L. 10 § I D. cit. 13. 6 и L. 17 § 2 D. сit. 19. 5, где Ульпиан в одном случае объявляет осмотрщика ответственным не более как за вину, в другом - возлагает на него ответственность и за custodia. Если даже и согласиться с Бароном в том, что умолчание во втором из указанных текстов о custodia и упоминается здесь Ульпианом только о dolus и о culpa объясняется простой неточностью со стороны юриста[723], то внести в такую неточность поправку с нашей стороны мы имели бы, очевидно, право в крайнем случае в том смысле, что объявили бы согласно двум другим текстам должника ответственным за custodia там, где передача вещи имела место исключительно в его интересе. Идти дальше было бы слишком произвольным обращением с текстами.
Допустив, однако, возможность такой поправки, мы получаем следующие выводы для толкования текстов: должник, имеющий в руках чужую вещь на основании инноминатного контракта, отвечает за custodia (до границ непреодолимой силы - L. 17 § 4 D. сit.) в том случае, если контракт этот заключен исключительно в интересах должника и аналогичен с этой точки зрения коммодату; он отвечает не более чем за culpa, если контракт заключен в интересах обеих сторон; он отвечает, наконец, только за dolus, если контракт заключен исключительно в интересах лица, передавшего вещь и приближается поэтому, как на то указывает и сам Ульпиан, к типу поклажи. Такое объяснение основано, очевидно, на последовательном проведении принципа, положенного в основание своего рассуждения самим римским юристом.
Полученный вывод, совпадая полностью со взглядом Барона, требует, однако, несколько более подробного разъяснения. Из изложенного нетрудно усмотреть, что противоречащее мнение Брукнера, возлагающее на должника ответственность за custodia во всех случаях инноминатных контрактов, где находятся налицо те условия, которые Брукнер признает для этого необходимыми, никоим образом не может быть признано имеющим сколько-нибудь твердую опору в источниках. В виде общего принципа оно здесь не формулировано нигде; попытка обосновать его на обобщении решений, данных для частного случая, сталкивается с противоречиями в текстах, не говоря уже о том, насколько и без этого можно было бы считать позволительным распространение такого обобщения на все случаи инноминатных контрактов, как это делает Брукнер. С нашей точки зрения, правильность мнения Брукнера опровергается самим историческим ходом развития права. Инноминатные контракты развивались теорией и практикой, как известно, уже только в императорском периоде. Вопрос о принципиальном подведении их под нормы повышенной ответственности (ответственности за custodia) мог бы явиться для юристов лишь в том случае, если бы самые нормы эти находились еще в полном действии или же развивались бы в одном направлении с новыми юридическими отношениями, т.е. получали бы все большее и большее распространение в праве. Будь это так, вопрос о custodia не только должен был бы необходимо возникнуть по отношению к распределению прав и обязанностей сторон в инноминатных контрактах в виде вопроса общего (о чем, однако, никаких сведений не сохранилось), но и вообще должен был бы играть много более важную роль во всей теории классического обязательственного права. Ни того, ни другого в действительности нет: в прямую связь с ответственностью по инноминатным контрактам вопрос о custodia не ставится ни разу и в этом отношении не может быть указано, за исключением трех приведенных, ни на один текст, который относился бы к инноминатным контрактам. Это явление находит свое естественное объяснение при том, уже и ранее нами высказанном предположении, что в данном периоде развития самое понятие custodia находится уже в состоянии вымирания: схема распределения прав и обязанностей между сторонами в договоре строится теперь на принципе субъективной вины в зависимости от материального момента - от большей или меньшей выгоды, извлекаемой из договора тою или другою стороной; в этой области имеет, таким образом, место то же оперирование с понятием интереса, путем которого, как мы видели раньше, была вытеснена из действующего права и наиболее яркая черта ответственности за custodia - безусловная ответственность должника за утрату вещи посредством кражи. Следы ответственности за custodia сохраняются в результате только спорадически, под влиянием особых причин, в отдельных юридических отношениях и дольше всего там, где наиболее высокая ответственность должника может найти себе оправдание и с новой точки зрения о зависимости размеров ответственности должника от выгодности (utilitas) для него договора. Этим, между прочим, объясняется и то обстоятельство, что наибольшие следы custodia сохранились именно в договоре коммодата: этим же объясняется и то, что там, где идет речь об ответственности за custodia, встречаются постоянные ссылки и постоянные упоминания о коммодате. Характерное подтверждение этому мы и имеем как раз в тех текстах, о которых идет дело здесь: вместо того, чтобы формулировать какие-либо общие правила, которые имели бы применение к инноминатным контрактам, как таковым, Ульпиан везде ограничивается тем, что старается подвести отношения сторон под нормы какого-либо аналогичного названного реального контракта, упоминая в одном случае о коммодате, в другом о поклаже. Утверждать при этих условиях, что ответственность за custodia имеет в инноминатных контрактах сколько-нибудь широкое значение, едва ли можно считать себя вправе.
IV. В области консенсуальных контрактов и примыкающих к ним квазиконтрактных обязательств вопрос об ответственности за custodia не имеет в общем того значения, какое ему принадлежит в области контрактов реальных. Исключение в этом направлении представляет из себя, как мы увидим ниже, только договор найма, в отдельных случаях которого наличность повышенной ответственности должника за целость и сохранность чужой вещи может считаться обоснованной по меньшей мере в той же степени, как в договоре коммодата. Все остальные виды юридических отношений, принадлежащих к этому типу, дают по вопросу о наличности в них ответственности за custodia крайне сомнительный, чтобы не сказать прямо отрицательный, результат. Многое и здесь, однако, спорно и требует поэтому более внимательного анализа.
1) Что касается прежде всего до договора купли-продажи, то мы уже выше имели случай выяснить, что вопрос об ответственности за custodia может здесь подниматься лишь при одном условии: если проданная вещь оставляется до традиции в руках продавца. Мы видели вместе с тем, что хотя продавец, естественно, обязан применять к надзору за этой вещью и к охране ее обычную тщательность рачительного домохозяина и отвечает, следовательно, на этом основании и за culpa in custodiendo (это само собою вытекает из характера договора, как контракта bonae fidei), но что повышение ответственности его за эти пределы (при отсутствии особых обстоятельств, как, например, специального соглашения, просрочки) является принципиально невозможным. Невозможным потому, что, будучи по существу перенесением на продавца полного или частичного риска (periculum rei), оно шло бы вразрез с одной из основных норм, регулирующих отношения сторон в договоре купли-продажи, с нормой, в силу которой с момента вступления договора в окончательную силу (perfectio) риск переходит на покупателя: periculum est emptoris.
Для договора купли-продажи наличность ответственности за cus-todia, как общего правила, отрицается ввиду изложенных соображений, находящих твердое обоснование и в источниках, как Бароном, так и Брукнером[724]. Спорным между названными авторами является, однако, один из частных случаев купли-продажи, которому Барон по примеру Регельсбергера дает имя "Speciesverkauf mit Quantitätenpreis" (emtio ad mensuram). Под этим понимается продажа заменимых вещей (res quae pondere numero mensura constant), совокупность которых индивидуально определена (продается, например, все зерно, находящееся в амбаре; все вино, масло и т.п., находящееся в погребе), но по цене, определенной не для всего количества сразу (per aversionem, universaliter uno pretio), а по единицам измерения продаваемых предметов (по столько-то за пуд, за ведро, за штуку и т.п.).
Примечания:
[713] Первый из этих
текстов Барон объяснял первоначально разногласием по данному вопросу Павла
с другими юристами (ср. выше, С. 335 примеч. 5); впоследствии (Arch. T.
78, стр. 269 в конце, 270) он предпочел толкование, относящее L. 14 D.
cit. к случаю залога недвижимости, который имеется в виду и в L. 9 §
5 D. cit. Но если даже и признать вместе с Бароном, что упоминание в последнем
из указанных текстов только о dolus и о culpa объясняется беглостью замечания
Ульпиана, не рассматривающего здесь вопрос об ответственности залогодержателя
ex professo, то все же остается необъяснимым, каким образом Павел в L.
14 D. cit. мог умолчать о том, что он имеет в виду исключительно случаи
залога недвижимости и не отметил, что при закладе движимости ответственность
залогодержателя определяется другими нормами.
[714] Baron. Arch.
T. 52, стр. 77; Т. 78, стр. 268; Bruckner. Die Custodia, стр. 199 сл.
[715] Против этого
ср. пока Pernice. Labeo. II, стр. 356, примеч. 45; Windscheid. Pandekt.,
§ 264, примеч. 9.
[716] По крайней мере
для права Юстиниана; об этом придется еще говорить подробнее.
[717] Этим объясняется
старание глоссы и старых юристов объяснить давно подмеченное противоречие
в источниках тем, что ответственность залогодержателя повышается в некоторых
особых случаях, а именно, по их мнению, там, где залог установлен исключительно
в его собственном интересе, а не в интересе вместе с тем и должника (ср.
Glück. Pandekt.-Comment. T. XIV, стр. 73 сл.); конструирование таких
случаев не могло, конечно, не носить характера крайней искусственности.
[718] Пернис (Labeo.
II, стр. 356) признает слишком смелым (zu gewagt) даже и то предположение,
что залогодержатель в прежнее время нес безусловную ответственность за
утрату заложенной вещи посредством кражи. Нам казалось бы, что в пользу
такого предположения говорят вполне достаточные данные, хотя нельзя, конечно,
не признать и того, что данные эти в значительной степени стерты последующим
развитием права.
[719] Ср. Baron. Arch.
T. 52, стр. 7 в конце и примеч. 40 там же; Bruckner. Die Custodia, стр.
199 сл. Барон осуждает крайне неудачную редакцию текста Юстинианом, Брукнер
ставит объяснение выражения «placuit sufficere» в непосредственную связь
со своим толкованием L. 5, 8 C. de act. pigner. 4. 24 (ср. выше): императорскими
рескриптами было разъяснено, что на залогодержателя не может быть возлагаемо
ответственности выше, чем за custodia.
[720] Die Custodia.
§ 28, стр. 232.
[721] Baron. Arch.
T. 52, § 52, § 12, стр. 86 сл.; Arch. T. 78, стр. 261 сл.; в
последней статье, равно как и в своем учебнике пандект, Барон не говорит,
правда, о «сделках, аналогичных коммодату», и пользуется относящимися
сюда текстами лишь для обоснования своих выводов по отношению к самому
коммодату, но случаи этой группы подходят, очевидно, под более широкую,
названную у Барона рубрику тех, в которых должник «имеет в руках чужую
вещь на основании выгодной для него сделки».
[722] Дальше и до конца
(до L. II pr. D. eod.) Ульпиан переходит к анализу ответственности за
утрату вещи не непосредственно из владения должника, а при отсылке ее
обратно кредитору; эта часть текста была уже рассмотрена выше.
[723] Arch. T. 78,
стр. 261, примеч. 103 в конце; раньше (Arch. T. 52, стр. 87) Барон объяснял
этот текст иначе, он указывал на то, что Ульпиан «хотя и умалчивает здесь
о custodia, но и не отрицает ответственности за нее».
[724] Baron. Arch.
T. 52, стр. 58 сл.; Т. 78, стр. 270 сл.; Bruckner. Die Custodia, стр.
235 сл., где с достаточной полнотой приведены и источники; большая часть
имеющих отношение к данному вопросу текстов была уже указана выше.