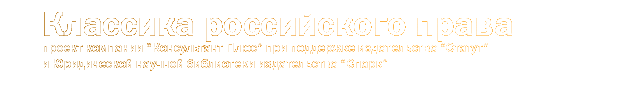Пассек Е.В. Неимущественный интерес и непреодолимая сила в гражданском праве
Авторы, защищающие мнение о безусловной ответственности залогодержателя за утрату вещи посредством кражи, устраняют общую доказательную силу говорящих против этого мнения текстов (L. 14 §§ 5-7 D. de furt. 47. 2) ссылкой на то, что здесь идет речь о специальном случае заклада - о закладе раба; признавая, что в этом специальном случае залогодержатель действительно отвечает лишь при наличности вины с его стороны, они объясняют это тем, что как при коммодате, так и при закладе раба ответственность за custodia, вообще говоря, на должника не возлагается: раб в этом отношении занимает особое место (L. 5 § 6 D. commod. 13. 6)[695]. Против такого объяснения говорит многое. Прежде всего представляется странным, что Папиниан, подробно анализируя различные сложные случаи кражи заложенного раба, нигде не упоминает о том, что его решения применимы именно только к этому частному случаю и что по отношению к другим объектам заклада решения эти силы не имеют. Этой существенной недомолвки Папиниана не исправляет и цитирующий его слова Ульпиан[696]; мало того, как бы для полной сбивчивости он сейчас же вслед за передачей решений Папиниана сообщает (в § 10 того же фрагмента) известное уже нам правило Юлиана о принципиальном признании права на предъявление иска о краже только за тем, "qui ob eam rem tenetur, quod ea res culpa ejus perierit". Затем предположение о том, что заклад раба представляет от других случаев заклада какие-либо отступления, маловероятно еще и потому, что именно этот пример заклада (заклад раба) является, как в том нетрудно убедиться из рассмотрения источников, одним из наиболее часто встречающихся примеров в относящихся к залоговому праву разъяснениях юристов; если бы по отношению к утрате этого объекта действовали какие-либо специальные нормы, то источники не могли бы этого не отметить, между тем Юстиниан, как мы видели, не затрудняется распространить в своих институциях формулированное Папинианом обоснование иска о краже на все случаи заклада безразлично. Наиболее существенным доводом, говорящим против предположения о безусловной ответственности залогодержателя, является, наконец, то обстоятельство, что все полученное им по иску о краже с виновного залогодержатель должен передать должнику[697]. Эта весьма важная для конструкции всего отношения норма одинаково ясно ставится как теми, кто признает за залогодержателем право на предъявление иска о краже in solidum, так и теми, кто сводит его интерес к сумме обязательства, причем здесь допускается только одно исключение - оставлять взысканное в свою пользу кредитор имеет право лишь в том случае, если вещь была у него украдена самим залогодателем[698]. Если бы, сверх всего этого, ответственность залогодержателя действительно была бы безусловной, то его общее положение являлось бы чрезмерно неблагоприятным: неся такую ответственность, он не пользовался бы взамен ее никакими соответственными выгодами в противоположность коммодатару, который извлекает из обязательства во всяком случае больше выгод, чем залогодержатель и тем не менее оставляет все взысканное по иску о краже в свою личную пользу[699].
Ввиду всего изложенного нельзя, как нам кажется, не прийти к тому выводу, что между обеими рассмотренными группами текстов действительно существует противоречие: одни из них могут быть объяснены лишь предположением о безусловной ответственности залогодержателя за утрату вещи посредством кражи, другие - возлагают на него эту ответственность лишь в том случае, если допущение возможности кражи может быть ему поставлено в вину. При этом перевес лежит, без сомнения, на стороне источников второй группы; юристы, отдельные выражения которых дают основание думать, что они исходят из предположения о безусловной ответственности залогодержателя, ограничиваются именно только этими отдельными выражениями, не выводя из них никаких дальнейших последствий, между тем как противоположный взгляд развит и мотивирован подробно; этот же противоположный взгляд, сверх того, санкционирован и Юстинианом.
Обращаясь к вопросу о происхождении указанного противоречия в источниках, следует прежде всего отметить, что оно никоим образом не может быть объясняемо наличностью разногласия по данному вопросу между отдельными юристами. Решения Папиниана, в силу которых залогодержатель отвечает лишь за вину, сообщены и одобрены тем же Ульпианом, который в L. 13 § 1 D. de pigner. act. 13. 7 возлагает на залогодержателя ответственность за custodia (до границ непреодолимой силы) и причисляет его в L. 14 § 16 D. de furt. 4. 2 к тем лицам, "quorum periculo res alienae sunt". Об обязанности залогодержателя выдать все полученное по иску о краже должнику говорит в L. 15 pr. D. de furt. 47. 2 тот же Павел, который в том же фрагменте признает за залогодержателем право "omnimodo in solidum furti agere". Противоречат, таким образом, не отдельные юристы друг другу, а каждый из названных юристов самому себе, что, очевидно, невозможно.
Полное и естественное объяснение взаимно противоречащих текстов может при этих условиях быть дано лишь предположением о том, что самые нормы, определяющие ответственность залогодержателя за утрату заложенной ему вещи вследствие кражи, в различное время были различны, что по отношению к этому вопросу имело, следовательно, место историческое развитие права. При этом все данные указывают на ход этого развития в том направлении, что существовавшая в прежнее время безусловная ответственность залогодержателя за такую утрату была впоследствии устранена толкованиями юристов и подведена ими под общий принцип ответственности должника не более как за легкую вину. Совокупность рассмотренных выше текстов дает достаточные точки опоры и для ответа на вопросы о том, когда именно и каким именно образом была внесена юристами эта существенная перемена в прежнее право. Оба текста, указывающие на безусловность ответственности залогодержателя, взяты составителями дигест из комментаров Ульпиана и Павла к сочинениям Сабина; это обстоятельство дает основание предположить, что если норма эта для эпохи названных, комментирующих Сабина юристов практическое значение действительно уже утратила, то во время Сабина она такое значение еще имела. Изменение в этом отношении могло произойти, следовательно, в период времени, лежащий между Сабином и Юлианом: последний юрист уже формулирует принцип ответственности каждого должника за утрату вещи лишь при наличности вины с его стороны, причем выводы Папиана, Помпония и Павла представляют из себя в сущности не что иное, как дальнейшее развитие этого принципа и приложение его к отдельным частным случаям. Способ же, каким было проведено ограничение ответственности залогодержателя, состоит и здесь в оперировании с понятием интереса в сохранности вещи, необходимого для легитимации истца в иске о краже: на место интереса, состоящего в безусловной ответственности за утрату вещи, подставляется специальный интерес кредитора, заключающийся в том, что он теряет владение предоставленным ему вещным обеспечением по обязательству. Необходимым последствием такой подстановки[700] и является обязанность залогодержателя выдавать все полученное по иску о краже должнику, частью зачитая полученное в счет обязательства, частью возвращая должнику остающийся излишек. Этим же объясняется и колебание юристов относительно того пункта, может ли залогодержатель предъявлять иск о краже "in solidum" или же "credito tenus"; Папиниан вполне последовательно высказывается за второе, Павел, опираясь на общую формулировку Сабина, за первое, причем, однако, и сам не делает из этого принципа дальнейших логических выводов, так как и он признает залогодержателя обязанным все полученное выдать должнику. Описанному способу (подстановке в толковании понятия интереса) мы обязаны, однако, и сохранением дошедших до нас следов существования прежней нормы о безусловной ответственности залогодержателя: под формулу "cujus interfuit non subripi, is actionem furti habet"[701] в равной степени подходят и прежнее и новое обоснование ответственности залогодержателя (прежнее - eo quod tenetur damnum videtur pati, новое - expedit ei pignori potius incumbere quam in personam agere).
Тот вывод, что залогодержатель не несет безусловной ответственности за утрату вещи вследствие кражи, находит дальнейшее подтверждение и в тех текстах, которые хотя и не говорят специально о краже, но устанавливают норму еще более общего характера, именно ту, что залогодержатель за все случаи утраты заложенной вещи отвечает лишь при том условии, что такая утрата может ему быть поставлена в вину. Этот важный для нас принцип с особенной ясностью формулирован в двух императорских конституциях: L. 5 и L. 8 C. de act. pigner. 4. 24:
L. 5 C. h. t. Imp. Alexander Dioscoridae. Si creditor sine vitio suo argentum pignori datum perdidit restituere id non cogitur: sed si culpae reus deprehenditur vel non probat manifestis rationibus se perdidisse, quanti debitoris interest condemnari debet.
L. 8 C. eod. Imp. Philippus Saturnino. Si nulla culpa seu segnitia creditori imputari potest, pignorum amissorum dispendium ad perculum ejus minime pertinet. Sane si simulata amissione etiam nune eadem pignora, ut adseveras, a parte diversa possideantur, adversus eum experiri potes.
Смысл приведенных текстов не оставляет, по-видимому, места никаким сомнениям. Залогодержатель, ссылающийся на утрату заложенных вещей, обязан, конечно, прежде всего доказать, что утрата эта действительно имела место (probare manifestissimis rationibus se perdidisse) и никоим образом, само собою разумеется, не освобождается от ответственности, если будет доказано, что его утверждение ложно, что вещи им не утрачены, а присвоены (simulata amissio) и продолжают находиться в его владении (etiam nunc a parte diversa possidentur). Если же вещи действительно утрачены, то одно из двух: если они утрачены по его вине (si culpae reus deprehenditur), он обязан возместить залогодателю весь происшедший от этого ущерб (quanti debitoris in-terest condemnari debet); если же кредитору ничего в этом отношении в упрек не может быть поставлено (si nulla culpa seu segnitia creditori imputari potest), он никакой ответственности перед должником не несет (pignorum amissorum dispendium ad periculum ejus minime pertinet).
Содержание обоих приведенных текстов стоит, очевидно, в полном противоречии с теорией об ответственности залогодержателя до границ непреодолимой силы и едва ли возможно признать, что толкования, имевшие целью устранить доказательную силу этих текстов, могут быть названы сколько-нибудь удачными. Барон прибегает для этой цели к тому предположению, что причиной утраты залогодержателем вещей в обоих случаях, по поводу которых были даны императорские рескрипты, была именно непреодолимая сила и что при таких обстоятельствах залогодержатель, естественно, и не отвечает иначе как при наличности какой-либо вины с его стороны[702]. В подтверждение правильности такого объяснения Барон ссылается на аналогичный, по его мнению, случай, решенный Павлом в L. 30 D. de pigner act. 13. 7: кредитор, давший деньги взаймы плотовщику, по неуплате их в срок задержал на реке принадлежавшие должнику плоты; река поднялась (flumen crevit) и плоты были ею унесены; на вопрос о том, отвечает ли кредитор перед должником за утрату плотов, Павел дает ответ, что, если передача была со стороны должника добровольной, кредитор отвечает не более как за вину, но не отвечает за непреодолимую силу (si debitor sua voluntate concessisset, ut retineret, culpam dumtaxat ei praes-tandam, non vim majorem). Характерно в этом решении только непосредственное противопоставление друг другу двух понятий - culpa и vis major, с пропуском обычного среднего члена - custodia, в остальном решение это ни в каких дальнейших объяснениях не нуждается[703]. Содержание его, однако, и само по себе не говорит в пользу мнения Барона, так как и здесь залогодержатель во всяком случае объявляется ответственным не более как за culpa (culpam dumtaxat ei praestandam)[704]. Но если даже признать, что это последнее замечание Павла действительно объясняется или простой неточностью редакции, или тем, что в данном случае юрист, имея дело с несомненным случаем непреодолимой силы[705], ограничился замечанием, что именно при этих условиях кредитор и вообще может быть ответственным лишь при наличности какой-либо вины с его стороны, то отсюда никоим образом, конечно, не следует еще, чтобы решения, данные в L. 5 и L. 8 C. cit. 4. 24, были даны по случаям, аналогичным тому, с каким имеет дело L. 30 D. cit. Произвольность такого предположения, которое не подкрепляется ни единым словом текстов кодекса, настолько очевидна, что сколько-нибудь подробные разъяснения по этому поводу вполне излишни[706].
То же самое в общем должно быть сказано и о толковании Брукнера, для которого L. 5 и L. 8 C. cit. 4. 24 еще более неудобны ввиду того, что они представляют из себя прямое и категорическое опровержение его конструкции ответственности за custodia, как безусловной ответственности за все случаи утраты владения (detentio) вещью: под "утратой заложенных вещей" (amissio pignorum) здесь, без сомнения, понимается не только полное уничтожение последних, но и утрата владения ими, тем не менее залогодержатель объявляется ответственным ни в каком случае не более чем за culpa. Для устранения неудобных текстов Брукнер[707] прибегает к своего рода историческому способу толкования, которому нельзя было бы отказать в остроумии, если бы только оно находило хотя какое-нибудь подтверждение в источниках. Он обращает прежде всего особое внимание на то, что оба текста говорят о "simulata amissio" заложенных вещей и считает себя вправе сделать отсюда тот вывод, что в позднейшую императорскую эпоху кредиторы часто прибегали к такого рода приемам в ущерб должникам, так что здесь мы имеем дело с особой формой ростовщичества, с одной из тех "aliae captiones", о которых говорит император Константин по поводу установленного им запрещения legis commissoriae. Чтобы предохранить должника от такого рода обмана, продолжает Брукнер, наиболее действительным средством было бы возложение на кредитора безусловной ответственности за все без исключения случаи утраты заложенной вещи (а не только за случаи утраты владения ею), и весьма естественно, что такая тенденция действительно возникла в практике: этим объясняются как постоянное обращение к императорам с вопросами о пределах ответственности залогодержателя, так и частые ответы последних в том смысле, что залогодержатель в общем отвечает не более как за culpa levis, причем под это последнее понятие подводилась и ответственность за custodia; взамен этого императоры указывали, однако, на то, что от кредитора в каждом отдельном случае должно требовать представления очевидных доказательств того, что заложенные вещи им действительно утрачены.
Нетрудно заметить, что и для построенной Брукнером гипотезы источники не дают ни одного слова опоры. Заключать о наличности и о широком развитии целой системы обманных приемов со стороны залогодержателей, о стремлении противодействовать этим обманам возложением на кредитора безусловной ответственности за всякую утрату вещи, о противодействии этому стремлению со стороны императорской власти и т.д., - и все это на том основании, что в одном из случаев (в L. 8 C. cit.) залогодатель утверждает, что ссылка кредитора на утрату им заложенной вещи неправильна, а в другом (в L. 5 C. cit.) формулируется и без того понятная норма, что всякое лицо, ссылающееся на какой-либо освобождающий его от ответственности факт, обязано последний доказать - такой способ толкования едва ли может быть признан особенно убедительным. Можно смело утверждать, что если бы в известную эпоху развития права, и притом в такую, о которой наши сведения сравнительно полны (первая половина III в.), действительно имело место все то, что предполагает Брукнер, до нас, без сомнения, дошли бы об этом много более подробные известия: вопроса об ответственности залогодержателя источники касаются неоднократно и юристам не было бы недостатка в поводах и случаях остановиться на таком важном явлении, как то, о котором говорит Брукнер. Если же оставить этот исторический экскурс Брукнера в стороне, то сущность его объяснения сводится к тому, что под словом "culpa" в текстах кодекса следует подразумевать и custodia, которая, по утверждению Брукнера, была подведена римскими юристами под критерий вины посредством фикции[708]. Это предположение, позволяющее оперировать с терминами "culpa", с одной стороны, и "custodia" - с другой, не стесняясь их точным смыслом, в свою очередь, однако, не может быть признано достаточно обоснованным[709].
Обращаясь, далее, к вопросу об ответственности залогодержателя за повреждение заложенной вещи, мы и здесь найдем более чем достаточные доказательства в подтверждение того взгляда, что и в этом отношении залогодержатель отвечает не более чем за culpa. При этом разумеется само собою, что если такие повреждения были следствием действий самого кредитора, он отвечает за них постольку, поскольку действия эти подходят под нормы закона Аквилия[710]. Но за повреждения, причиненные третьими лицами, лица эти отвечают непосредственно перед самим залогодателем: право на предъявление иска legis Aquiliae принадлежит исключительно этому последнему и признается за залогодержателем лишь при наличности особых условий, притом не иначе как в форме actio utilis или in factum[711]; отсюда само собою следует, что и залогодержатель безусловной ответственности за эти события перед залогодателем не несет. Ко всему сказанному остается добавить, наконец, только одно, что и в такого рода случаях, когда повреждение вещи имело место при условиях, не обосновывающих права на предъявление к кому-либо иска legis Aquiliae, залогодержатель также объявляется ответственным лишь при наличности какой-либо вины с его стороны: он отвечает только за dolus и culpa, о custodia при этих условиях не упоминается нигде[712].
Примечания:
[695] Baron. Arch.
T. 52, стр. 80, 81; Bruckner. Die Custodia, стр. 188 сл., 215. Такое же
объяснение давалось, как мы видели выше, и по отношению к ответственности
коммодатара. Там же было указано на главный довод против правильности
такого объяснения, заключающийся в том, что источники нигде не отличают
кражи раба от кражи других предметов; к случаям непреодолимой силы, на
которые не распространяется ответственность за custodia раба, относятся
только fugae servorum, а не subreptio servi.
[696] Самое решение,
быть может, принадлежит даже и не Папиниану, а заимствовано им из более
древнего источника; каким образом, в противном случае, могут быть понимаемы
слова цитированного текста: «quam sententiam Pomponius quoque… probat»?
Помпонию, жившему раньше Папиниана, мнения последнего известны быть не
могли.
[697] Расчет между
ними производится, следовательно, по тем же правилам, как и в случае продажи
заложенной вещи: из полученной суммы покрывается обязательство, излишек
же (hyperocha, id quod debitum excedit – L. 15 pr. D. de furt 47. 2) возвращается
должнику.
[698] L. 15 pr. D.
de furt. 4. 2; L. 22 pr. D. de pign. act. 13. 7; L. 21 § 3 D. de
pignor. 20. 1; L. 80 (79) D. de furt. 47. 2.
[699] L. 22 §
3 a C. de furt. 6. 2; то же правило действует и в договоре найма – L.
6 D. loc. 19. 2.
[700] Наиболее ясную
формулировку этого обоснования дают институции (§ 14 I. de obl. ex
del. 4. 1: quia expedit ei pignori potius incumbere quam in personam agere).
Особенно удачным избранный прием признан ни в каком случае быть не может:
этот интерес кредитора в достаточной степени защищен как принадлежащими
последнему владельческими интердиктами, так и созданным специально для
защиты залогового права вещным иском (actio hypothecaria, quasi Serviana).
[701] L. 10 D. eod.
47. 2, заимствованный также из комментария Ульпиана к Сабину.
[702] Baron. Arch.
T. 78, стр. 270, примеч. 118.
[703] Оно содержит
в себе по существу лишь применение общего правила, что «casus fortuiti
nullo bonae fidei judicio praestantur», – L. 6 C. de act. pigner. 4. 24,
ср. L. 21 § 2 D. de pignor. 20. 1; L. 23 i. f. D. de R. J. 50. 17.
[704] Ввиду этого и
сам Барон в своей первой статье (Arch. T. 52, стр. 79), признавая решение,
данное в L. 30 D. cit. противоречащим защищаемому им мнению, объяснял
его тем, что по вопросу об объеме ответственности залогодержателя Павел
расходился во взглядах с другими юристами и, в частности, с Ульпианом.
[705] Aquarum magnitudo,
vis fluminis – L. 15 § 2 D. loc. 19. 2; L. 23 i. f. D. de R. J. 50.
17.
[706] Сам Барон, к
сожалению, не дает никакой, хотя бы и самой краткой, мотивировки в доказательство
своей гипотезы. Изложив в двух словах свой взгляд на истинный смысл L.
30 D. de pigner. act. 13. 7, он ограничивается, далее, простым замечанием
о том, что «сказанное относится и к L. 5; L. 8 C. de act pigner. 4. 24,
которые также изданы в ответ на запросы о частных случаях» (das Gleiche
gilt von L. 5; L. 8 C. de act pigner. 4. 24, welche auf Anfragen über
praktische Fälle ergangen sind). Почему именно «das gleiche gilt»,
на этом Барон не останавливается вовсе.
[707] Bruckner. Die
Custodia, стр. 197 сл.
[708] Цитиров. сочинен.,
стр. 198, примеч. 5; более подробное развитие той же идеи – стр. 180 сл.
[709] Ср. Gerth. Der
Begriff der Vis major, стр. 51, примеч. 1.
[710] L. 18 D. ad I.
Aquil. 9. 2.
[711] Право на предъявление
Аквилиева иска в этой его форме признается за залогодержателем в том случае,
если, напр., «dominus ipse servum suum occidit», «propter inopiam debitoris
vel quod litem amisit creditor» – L. 17; L. 30 § 1 D. ad. 1. Aquil.
9. 2; L. 27 D. de pignor. 20. 1. Мы опять встречаемся здесь с глубоко
различным отношением к праву заинтересованных лиц на предъявление иска
о краже, с одной стороны, и Аквилиева иска – с другой.
[712] Ср. L. 24 §
3; L. 43 § 1 D. de pigner. act. 13. 7; L. 9 § 5 D. de reb. auctor.
judic. possid. 42. 5. По аналогии с коммодатом мы могли бы и здесь ожидать
особых отступлений для иска de pauperie; отсутствие данных относительно
последнего легко объясняется, однако, во-первых, сравнительной редкостью
в практике повреждений этого типа, во-вторых, тем, что иск de pauperie,
обсуждаемый по тем же правилам, как и иск о краже, разделил в этом отношении
и судьбу последнего: безусловная ответственность залогодержателя существовала
здесь раньше, но исчезла впоследствии под влиянием тех же причин, как
и безусловная ответственность его за утрату вещи посредством кражи.