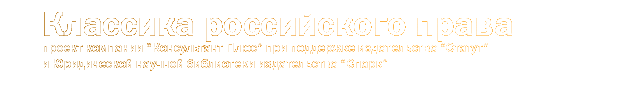Пассек Е.В. Неимущественный интерес и непреодолимая сила в гражданском праве
L. 91 (90) pr. cit. никоим образом не препятствует, следовательно, признанию безусловного характера ответственности должника за утрату вещи посредством кражи. Но фрагмент этот имеет особое значение в другом отношении: он является одним из старейших текстов, анализирующих отношение между правом на предъявление иска о краже, с одной стороны, и понятием интереса, требуемого для обоснования этого иска, - с другой. Он решает таким образом вопрос, аналогичный тому, рассмотрению которого посвящен и L. 14 § 12 D. eod. 47. 2; с этой точки зрения и не лишнее, быть может, обратить внимание на тот факт, что именно Лабеон не упоминает о признаке вины, как о необходимом условии ответственности должника, между тем как Юлиан выдвигает этот момент вины на первый план.
С аналогичными стараниями юристов дать более точное определение содержанию того "интереса", который должен лежать в основании правомочия к предъявлению иска о краже (по формуле "cujus interfuit non subripi, is actionem furti habet"), мы будем еще иметь случай не раз встречаться и ниже. Не может быть никакого сомнения в том, что сама эта формула есть не более как результат обобщения, данного юриспруденцией в пояснение того факта, что к предъявлению иска о краже признается управомоченным не только собственник вещи, но и целый ряд других лиц. Нет сомнения также и в том, что в этом виде обобщение не может быть признано особенно удачным: неопределенность понятия "интереса" настолько велика, что на наличность этого признака могли ссылаться и такие лица, которые к предъявлению actio furti заведомо управомочены не были[680]. Понятие интереса требовало поэтому более точного объяснения со стороны своего содержания, а в такого рода объяснениях и получалась возможность обратить внимание на тот или иной признак более частного характера[681]. Какая из этих формулировок должна быть признана наиболее удачной, наиболее правильной и наиболее соответующей фактам, - это вопрос, который в свою очередь требует особой, самостоятельной поверки.
Таким образом, в полученные нами выше выводы, касающиеся ответственности коммодатара[682], должна в результате быть внесена следующая поправка. Рядом с текстами, говорящими о безусловной ответственности коммодатара за кражу, могут быть указаны и такие, которые признают его ответственным лишь в том случае, если ему может быть поставлено в вину небрежное хранение вещи (culpa in custodiendo). При этом разумеется само собою, что сказанное о краже в равной степени относится и ко всем аналогичным искам[683]. Если же это так и если коммодатар действительно не отвечает безусловно даже и по этим искам, то все доказательства его ответственности до границ непреодолимой силы сводятся к выражениям общего характера, не дающим возможности определить ближайшим образом содержание такой ответственности, а следовательно, и содержания понятия непреодолимой силы. Несомненно, существующее в источниках противоречие может, правда, как это до сих пор и делалось, быть устраняемо путем толкования, но при этом открывается такой широкий простор субъективному взгляду каждого, что получаемые этим способом результаты в значительной степени теряют свою убедительность для других[684]. Сколько-нибудь точные выводы могут быть получены лишь при условии точного ответа на следующие вопросы: во-первых, чем объясняется происхождение в источниках такого противоречия; во-вторых, как оно должно быть разрешаемо с точки зрения права Юстиниана? Ответ на эти вопросы еще далеко впереди; в данном месте нашей дальнейшей задачей является лишь собирание дальнейших для него данных и в этом отношении возможно, не останавливаясь далее на коммодате, перейти к рассмотрению четвертого, и последнего, вида названных реальных контрактов - к договору ручного заклада.
3) В нормах, регулирующих ответственность должника (залогодержателя) перед кредитором (залогодателем) по договору ручного заклада (pignus)[685], может в общем быть отмечена та же двойственность, на какую приходилось уже указывать по поводу коммодата. С одной стороны, в источниках содержатся данные, подтверждающие заключение о том, что залогодержатель отвечает перед залогодателем за custodia в техническом смысле слова; с другой - ряд текстов может быть приведен в подтверждение и того вывода, что ответственность залогодержателя ни в каком случае не превышает ответственности за culpa levis. При этом из рассмотрения совокупности всех данных нельзя, как нам кажется, не вынести того впечатления, что в этом случае перевес лежит, несомненно, на стороне источников второй группы; прямые доказательства в пользу повышенной ответственности залогодержателя немногочисленны, а недостаток более подробных указаний относительно многих частностей не дает возможности войти по этому вопросу в такое детальное рассмотрение, какое могло иметь место по отношению к коммодату.
Данные, на которые могут опереться сторонники мнения, возлагающего на залогодержателя повышенную ответственность, сводятся к следующим:
Во-первых, об ответственности залогодержателя за custodia говорят два текста, причем custodia опять стоит в них рядом с dolus и culpa как самостоятельное понятие, граничащее непосредственно с непреодолимой силой:
L. 13§ 1 D. de pigner. act. 13. 7 Ulpianus lº. 38 ad edict. Venit autem in hac actione et dolus et culpa, ut in commodato[686]: venit et custodia: vis major non venit.
L. 19 C. de pignor. 8. 13. Diocletian. et Maximian. Maximo. Sicut vim majorem pignorum creditor praestare necesse non habet, ita dolum et culpam, sed et custodiam exhibere cogitur[687].
Во-вторых, за залогодержателем признается право на предъявле-ние иска о краже (наравне с коммодатаром и conductor'ом), причем это право мотивируется тем соображением, что врученная ему чужая вещь принята им на свой страх (res aliena ejus periculo est) - известный уже нам синоним ответственности за custodia:
L. 14 § 16 D. de furt. 47. 2. Ulpianus lº. 29 ad Sabinum. Qualis[688] ergo furti actio detur ei, cui res commodata est, quaesitum est. Et puto omnibus, quorum periculo res alienae sunt, veluti commodati, item locati pignorisve accepti, si hae subreptae sint, omnibus furti actionem competere:
В-третьих, наравне с иском о краже залогодержатель имеет право и на предъявление иска vi bonorum raptorum; L. 2 § 22 D. h. t. 47. 8 ставит его и в этом отношении рядом с коммодатаром и conductor'ом.
В-четвертых, залогодержатель должен по тем же соображениям быть признан имеющим право и на предъявление иска de pauperie в силу L. 2 pr. D. si quadrup. 9. 1, а следовательно, и ответственным за повреждение и уничтожение вещи, имевшие место при этих условиях.
По отношению к договору ручного заклада имеются, словом, налицо все те частные нормы, которые были выяснены как характеристичные для ответственности до границ непреодолимой силы, и, будучи рассматриваемы сами по себе, приведенные данные могли бы быть признаны ставящими факт такой ответственности залогодержателя вне сомнения. Данные эти в значительной степени подрываются, однако, рядом других, которые в своей совокупности скорее подтверждают противоположное мнение о том, что залогодержатель отвечает ни в каком случае не более как за culpa levis. В этом отношении никоим образом, правда, не может быть придаваемо значения всем без исключения текстам, говорящим о том, что creditor pigneraticius отвечает за culpa, или даже о том, что он отвечает в данном специальном случае только за culpa. Не может потому, что как мы имели уже случай убедиться в анализе ответственности коммодатара, ответственность до пределов vis major отнюдь нельзя конструировать как ответственность за любой случай утраты или повреждения вещи; мы видели, что, будучи рассматриваема по содержанию, она сводится к безусловной ответственности за определенные события, из которых по практической важности первое место принадлежит краже[689]. В остальном и коммодатар, а следовательно, и всякий отвечающий за custodia должник отвечает не более как за culpa levis[690]. Если же это так, то стоящими в бесспорном противоречии с предположением о повышенной ответственности залогодержателя должны быть признаны только те тексты, которые содержат в себе либо принципиальное признание залогодержателя ответственным только за легкую вину, либо отрицание наличности безусловной ответственности его именно для тех случаев, в которых последняя является характерной для отвечающих за custodia должников.
В этом последнем отношении первостепенное значение имеют тексты, касающиемся права залогодержателя на предъявление иска о краже. Мы только что видели, что L. 14 § 16 D. de furt. 47. 2 называет залогодержателя в числе тех лиц, правомочие которых к предъявлению этого иска обосновывается ответственностью за целость вещи перед ее собственником (quorum periculo res alienae sunt); такая ответственность и составляет, следовательно, в данном случае содержание того интереса, наличность которого требуется от истца по иску о краже. Совершенно независимо от этого залогодержатель заинтересован, однако, в целости заложенной вещи еще и с другой точки зрения: утрата и повреждение этой вещи лишает его того обеспечения, на основании которого он вошел в кредитную сделку с должником по обеспеченному залогом обязательству. Это обстоятельство дает ему возможность сослаться при обосновании иска о краже (по формуле - is actionem furti habet, cujus interest rem non subripi) еще на один момент: на свою заинтересованность в целости вещи не только в качестве должника (отвечающего перед залогодателем за возвращение заложенной вещи в целости), но и в качестве кредитора (теряющего обеспечение по принадлежащему ему обязательству)[691]. На взаимное соотношение этих двух различных моментов интереса и следует поэтому обращать особое внимание там, где ведется речь о праве залогодержателя на предъявление иска о краже.
Специальный анализ этих отношений можно найти в L. §§ 5-7 D. de furt. 47. 2; L. 15 pr. D. eod., L. 22 pr. D. de pigner. act. 13. 7 и L. 21 § 3 D. de pignor. 20. 1. Из этих текстов по принципиальной важности первое место должно в свою очередь быть отведено L. 14 § 6 D. cit. 47. 2 (Ulpianus lº. 29 ad Sabinum):
Idem (Papinianus) scribit, si, cum mihi decem deberentur, servus pignori datus subtractus sit, si actione furti consecutus fuero decem, non competere mihi furti actionem, si iterum subripiatur, quia desiit mea interesse, cum semel sim consecutus. Hoc ita, si sine culpa mea subripiatur: nam si culpa mea, quia interest, eo quod teneor pigneraticia actione, agere potero. Quod si culpa abest, sine dubio domino competere actio videtur, quae creditori non competit. Quam sententiam Pomponius quoque libro decimo ad Sabinum probat.
По ясности мысли и изложения приведенный текст не оставляет желать лучшего. Заложенный раб украден; кредитор иском о краже получает с виновного сумму, равную той, в которой раб был ему заложен. Раб украден вторично; может ли залогодержатель вторично предъявлять иск о краже? Папиниан отвечает на это отрицательно, ссылаясь на то, что кредитор не имеет более никакого интереса в сохранности вещи, так как по первому иску он уже полностью получил всю ту сумму, какую он мог требовать по обязательству. Одного такого ответа было бы вполне достаточно для утверждения, что безусловной ответственности за утрату вещи посредством кражи на залогодержателя перед залогодателем в этом случае не лежит; будь это иначе, он отвечал бы за такую утрату совершенно независимо от того, имела ли она место вследствие первой, или второй, или третьей и т.д. кражи, и такая ответственность была бы, конечно, сама по себе более чем достаточной для того, чтобы в каждом отдельном случае мотивировать наличность требуемого для предъявления иска о краже интереса в том "ne res subripiatur". Вторая половина текста не оставляет никаких дальнейших сомнений в правильности такого заключения. Здесь Папиниан с точностью различает именно два отдельных случая: тот, когда вторичная кража оказалась возможной лишь по какой-либо вине со стороны залогодержателя, и тот, когда ему в этом отношении ничего в упрек не может быть поставлено (si culpa mea servus subripiatur: si culpa abest). В первом случае залогодержатель допускается к предъявлению иска о краже, так как он сам отвечает перед залогодателем по иску из заклада (actio pigneraticia); во-втором - не допускается, очевидно, потому, что при отсутствии вины он ответственности за утрату вещи не несет, actio furti принадлежит собственнику вещи, а не залогодержателю. Вывод ясен: Папиниан признает залогодержателя ответственным лишь при том условии, что кража могла иметь место только вследствие какой-либо вины с его стороны; при отсутствии вины интерес залогодержателя в сохранности вещи сводится исключительно к тому, что утрата вещи лишает его обеспечения по обязательству, почему и объем интереса определяется суммой обязательства. То обстоятельство, что все рассуждение Папиниана (одобренное Помпонием и Ульпианом) относится к случаю вторичной, а не первой кражи, еще более подчеркивает правильность вывода; при первой краже факт виновности или невиновности залогодержателя в ее допущении действительно при описанных условиях вполне безразличен: утрата обеспечения сама по себе достаточно обосновывает право на предъявление иска о краже независимо от того, отвечает ли за сохранность вещи залогодержатель перед залогодателем или нет; этот момент (утрата обеспечения) при вторичной краже отпадает, и только здесь, следовательно, может подняться вопрос о принципах ответственности за сохранность вещи. Будь эта ответственность безусловна, залогодержатель мог бы обосновать ею в равной степени как первый, так и любой из последующих исков о краже.
На тех же принципах основаны решения, данные Папинианом в §§ 5 и 7 того же фрагмента. В § 5 Папиниан рассматривает случай кражи у залогодержателя одного из двух рабов, отданных в заклад вместе за один и тот же долг, и ставит вопрос о том, в какой именно сумме может быть предъявлен залогодержателем иск о краже: в половинной ли сумме долга (так как один из заложенных рабов остался у него в руках) или в полной (так как оставшееся у него в руках обеспечение может в свою очередь быть им утрачено, например смертью раба)? Ответ дается в том смысле, что залогодержатель может оценить свой иск во всю должную ему сумму, так как "следует обращать внимание не на оставшееся у него в руках, а на утраченное им обеспечение" (non enim respicere debemus pignus, quod subreptum non est, sed id quod subtractum est). В § 7 рассматривается случай, когда украдены оба заложенных раба: если они украдены вместе, залогодержатель может предъявлять иск о краже по отношению к каждому из них (utriusque nomine), но не в полной сумме долга (non in totum), а пропорционально тем частям, в каких каждый служил ему обеспечением (pro qua parte, in singulos diviso eo quod ei debetur, ejus interest); если же рабы украдены порознь, он может по отношению к каждому из них предъявить иск в полной сумме, но, однажды получив ее, лишается права иска о другом из украденных рабов (separatim autem duobus subreptis, si unius nomine solidum consecutus sit, alterius nihil consequetur).
Все эти решения проводят ту точку зрения, что интерес залогодержателя в сохранности вещи сводится исключительно к удержанию в руках предоставленного ему реального обеспечения по обязательству. Тем же соображением мотивируют право залогодержателя на предъявление иска о краже и институции Юстиниана (§ 14 I. de obl. ex del. 4. 1):
Unde constat creditorem de pignore subrepto furti agere posse, etiamsi idoneum debitorem habeat, quia expedit ei pignori potius incumbere quam in personam agere: adeo quidem ut, quamvis ipse debitor eam rem subripuerit, nihilo minus creditori competit actio furti.
Иное, однако, говорит Павел в L. 15 pr. D. de furt. 47. 2 (Paulus lº. 5 ad Sabinum):
Creditoris, cujus pignus subreptum est, non credito tenus interest, sed omnimodo in solidum furti agere potest: sed et pigneraticia actione id quod debitum excedit debitori praestabit[692].
Отступление, которое должно быть отмечено в этом тексте по сравнению с предыдущими, состоит в том, что Павел признает за залогодержателем безусловное право взыскания полностью всей суммы, подлежащей уплате по иску о краже, категорически замечая при этом, что интерес его не может быть оцениваем исключительно размером принадлежащего ему обязательства. Сопоставляя это утверждение со всем сказанным выше об ответственности залогодержателя за custodia и, в частности, с L. 14 § 16 D. de furt. 47. 2, нельзя не прийти к убеждению, что наиболее естественное объяснение текста дается предположением о том, что Павел исходит здесь из принципа безусловной ответственности залогодержателя за утрату вещи посредством кражи, так как в противном случае трудно себе представить, в чем же собственно еще, кроме этого, может заключаться необходимый для обоснования иска о краже интерес залогодержателя.
Наличность некоторого противоречия в источниках относительно обоснования права залогодержателя на предъявления иска о краже, а следовательно, и относительно ответственности его перед залогодателем, на наш взгляд, таким образом, несомненна. Объяснения его давались до настоящего времени в одном из двух направлений. Начало первому из них, вносящему в тексты, где идет речь о предъявлении залогодержателем иска о краже in solidum, молчаливое предположение, что во всех этих случаях кража могла иметь место лишь вследствие какой-либо вины с его стороны, положено еще глоссой[693]. При этом, однако, трудно найти достаточное объяснение тому обстоятельству, что сами эти тексты не дают никакого указания на необходимость момента вины, на который они не могли бы не обратить внимания, если бы они действительно признавали за залогодержателем право на иск лишь при наличности этого условия; сверх того, такие выражения, как "оmnimodo in solidum agere potest (creditor)", и причисление залогодержателя наравне с коммодатаром к лицам, "quorum periculo res alienae sunt", сами по себе указывают на то, что момент вины в этом отношении роли не играет[694].
Примечания:
[680] Аналогичное явление
может быть отмечено и по отношению к иску ad exhibendum, управомоченным
на предъявление которого в принципе также признавался всякий «cujus interest».
Против слишком широкого толкования этого понятия здесь с резкостью высказывается
Павел (L. 19 D. ad exhib. 10. 4), который, однако, и сам не указывает
никакого положительного признака для его ограничения. Что таким признаком
не может считаться «pecuniarium interesse», как это полагает глосса (ad.
v. doctior), ясно уже и из первой половины текста: ознакомление со счетами
противной стороны (rationes adversarii) может представлять для тяжущегося
немаловажный денежный интерес, но именно такое толкование Павел характеризует,
как «клевету на гражданское право».
[681] Этим и объясняется
то обстоятельство, что управомоченными на предъявление иска о краже признаются,
как мы видели, то лица, отвечающие за custodia, то те – quorum periculo
res alienae sunt, то те – quorum culpa subrepta sit res и т.п.
[682] Ср. С. 314, 315.
[683] Выше, С. 315,
пункт В.
[684] Брукнер, напр.,
прибегает для устранения противоречащих его мнению текстов к тому общему
приему, что приписывает римским юристам подведение всех случаев безусловной
ответственности должника под понятие вины, но вины «фиктивной», получая,
таким образом, возможность объяснить все неудобные для него тексты ссылкой
на то, что юрист, требующий признака виновности должника, в данном случае
имеет в виду не виновность в собственном смысле слова, а виновность фингированную
(ср. Bruckner. Die Custodia, стр. 177 сл., 190). Никаких данных, говорящих
в пользу такого предположения, источники не дают, и сам Брукнер не считает
себя вправе уклониться на этом основании от детального анализа спорных
мест, тем самым признавая свое предположение недостаточно обоснованным.
[685] Об ответственности
залогодержателя за сохранность заложенной ему вещи в договоре гипотеки
речь может идти, конечно, лишь в том случае, когда владение вещью перешло
в руки кредитора вследствие неисполнения должником своего обязательства.
С этого момента положение залогодержателя становится тождественным для
обоих видов залогового права и обсуждается по одним и тем же правилам.
[686] Сохранение или
уничтожение знака препинания в этом месте (между словами «commodato» и
«venit») никакого существенного изменения в смысл текста не вносит. Ср.
Baron. Arch. T. 52, стр. 78, примеч. 41; Т. 78, стр. 268, примеч. 114.
[687] Не может служить
доказательством в пользу ответственности залогодержателя до границ непреодолимой
силы L. 6 C. de act. pigner. 4. 24; если приведенный здесь в пример casus
fortuiti случай (adgressura latronum) и говорит, по-видимому, в пользу
того, что под casus fortuiti должны быть понимаемы случаи непреодолимой
силы, то дальнейшее обоснование (quae fortuitis casibus accidunt… nullo
bonae fidei judicio praestantur) показывает, что текст имеет здесь в виду
casus как простую противоположность вине.
[688] О предложенном
Бароном (Arch. T. 52, cтр. 58) изменении «qualis» на «quare» – ср. Pernice.
Labeo II, стр. 356, примеч. 44; Bruckner. Die Custodia, стр. 175, примеч.
2.
[689] Furtum; в связи
с чем стоит и аналогичная ответственность по иску vi bonorum raptorum;
по тем же правилам обсуждается, как мы уже видели выше, и ответственность
по иску de pauperie – случай, конечно, не частый, почему источники и обращают
на него мало внимания.
[690] Небесполезно,
быть может, еще раз отметить, что особое место в этом отношении занимают
nautae, caupones, stabularii: их ответственность сводится источниками
также к ответственности за custodia, но при этом категорически указывается,
что, во-первых, они кроме furtum отвечают и за damnum (L. 3 § 1;
L. 5 § 1 D. h. t. 4. 9) и что, во-вторых, ответственность эта имеет
место «sine culpa» с их стороны (L. 3 § 1 cit.).
[691] Этот момент может
служить достаточным основанием даже для правомочия залогодержателя к предъявлению
иска legis Aquiliae; ср. ниже, С. 338 примеч. 1 и текст к нему.
[692] К обоим текстам
ср. L. 12 § 2 D. 47. 2 и L. 88 (87) D. eod.: предъявлять иск о краже
«in summam debiti», а не «in summam pignoris», залогодержатель обязан
в том случае, «ubi debitor ipse subtraxisset pignus». По этому вопросу
Павел также находится в противоречии с другими юристами; ср. ниже, С.
354 примеч. 3 и Dernburg. Pfandrecht. T. II, стр. 400, 401.
[693] Ср., напр., глоссу
к L. 14 § 6 D. de furt. 47. 2 ad vv. «agere potero»; к L. 15 pr.
D. eod. ad. vv. «in solidum»; к L. 88 (87) D. eod. ad. v. «pignoris».
– Hasse. Die Culpa, стр. 350 сл.
[694] Тем не менее
не только для Юстинианова, но и для классического римского права способ
толкования, к которому прибегает глосса, представляется, на наш взгляд,
как видно из дальнейшего изложения, единственно возможным догматически;
совершенно другой вопрос, чем объясняется происхождение такого противоречия.