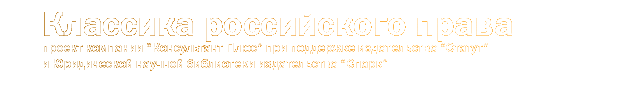Пассек Е.В. Неимущественный интерес и непреодолимая сила в гражданском праве
Переходя к вопросу об ответственности коммодатара за повреждения вещи, мы будем иметь возможность ограничиться сравнительно много более кратким изложением ввиду того, что важнейшие, относящиеся к этому вопросу источники рассмотрены уже раньше, в связи с ответственностью за утрату вещи.
В этом отношении разумеется само собою, что, во-первых, все, что сказано было выше о безусловной ответственности коммодатара за случаи уничтожения вещи чужими животными[666], относится в равной степени и к причиненным этим способом повреждениям вещи. За эти последние коммодатар отвечает безусловно.
Затем само собою разумеется, во-вторых, что на изложенных выше основаниях он не может быть признан безусловно ответственным за случаи повреждения вещи третьими лицами (область закона Аквилия). За случаи такого рода он отвечает лишь при том условии, что ему может быть поставлено в вину неприятие надлежащих мер к охране вещи.
Остается поэтому добавить, что коммодатар не отвечает безусловно и за такие повреждения вещи, которые причинены его собственными действиями. Одно, впрочем, само собою понятное ограничение, которое должно быть к этому добавлено, есть то, что это правило имеет применение лишь к тем случаям, когда коммодатар пользовался вещью вполне сообразно тому назначению, для которого она ему была передана. В противном же случае он не может быть признан свободным от вины уже потому, что им очевидно нарушены существенные основания состоявшегося соглашения; естественно поэтому, что, дозволяя себе такое нарушение, он должен нести ответственность не только за повреждения, но и за уничтожение объекта ссуды[667].
Из всего предыдущего могли бы быть сделаны следующие выводы относительно объема ответственности коммодатара:
А) Пределом его ответственности источники ставят "непреодолимый случай" (casus cui resisti non potest, cui humana infirmitas resistere non potest, casus majores), причем под непреодолимым случаем, как то видно из приводимых примеров и из сравнения с другими текстами, они понимают то же, что в других местах характеризуется ими как непреодолимая сила (damnum fatale, vis major).
Б) Такая ответственность коммодатара обосновывается в источниках тем, что он отвечает за custodia. Там, однако, где поднимается вопрос о степени требуемой от коммодатара осмотрительности, эта последняя нередко определяется по существу как "тщательная", "чрезвычайно тщательная", "осмотрительность осторожнейшего домохозяина" (diligentia exacta, exactissima, diligentia diligentissimi patris familias).
В) Будучи рассматриваема по содержанию, ответственность коммодатара сводится к следующему. Он отвечает безусловно (т.е. независимо от вины): за утрату вещи вследствие кражи (furtum), вследствие ограбления (rapina), за повреждение и уничтожение ее чужими животными (pauperies), за бегство рабов "qui custodiri solent". Он отвечает не более как за вину в других случаях утраты или повреждения вещи (потеря ее; damnum injuria ab alio datum; ухудшение и повреждение, происшедшие при надлежащем пользовании вещью и т.п.).
Г) В тех случаях, когда коммодатар несет перед собственником безусловную ответственность, ему, а не собственнику принадлежит и право на предъявление соответственного иска к третьему лицу, которое может быть привлечено к ответу за событие, повлекшее за собою утрату или повреждение вещи. С этим последним явлением, которое рассматривается в источниках главнейшим образом по отношению к actio furti, мы уже встречаемся не в первый раз и будем еще встречаться неоднократно.
Но если все данные, с которыми нам приходилось иметь дело до сих пор, подтверждали заключение о безусловной ответственности известного рода должников за утрату вещи вследствие кражи, то, с другой стороны, и по этому вопросу могут быть указаны такие решения юристов, которые делают должника ответственным лишь при том условии, что кража имела место вследствие наличности какой-либо вины с его стороны. По количеству текстов такого содержания немного, но ввиду их чрезвычайно важного значения для той или иной конструкции как характера ответственности должника, так и условий, при которых за ним признается право на предъявление соответственных исков, подобного рода выражения юристов требуют особо тщательного анализа.
Остановимся прежде всего на L. 14 § 10 D. de furt. 47. 2 (Ulpianus lº. 29 ad Sabinum). Здесь рассматривается вопрос: имеет ли право на предъявление иска о краже домовладыка, если вещь ссужена не ему, а его подвластному и у последнего украдена (an pater, cujus filio commodata res est, furti actionem habeat, quaeritur). Ульпиан сообщает, что Юлиан отрицает за домовладыкой право на предъявление иска на том основании, что домовладыка при этих условиях не отвечает за custodia (et Julianus ait patrem hoc nomine agere non posse, quia custodiam praestare non debeat); по той же причине не имеет иска о краже и поручитель за коммодатара (sicut, inquit, is qui pro eo, cui commodata res est, fidejussit, non habet furti actionem). Все это потому, заключает Юлиан, что предъявлять иск о краже может вовсе не каждый, кто вообще заинтересован в сохранности вещи, а только тот, кто отвечает за происшедшую по его вине утрату вещи; к этому мнению Юлиана, сообщает, наконец, Ульпиан, присоединился и Цельз (neque enim, inquit, is, cujuscumque intererit rem non perire, habet furti actionem, sed qui ob eam rem tenetur, quod ea res culpa ejus perierit: quam sententiam Celsus quoque libro duodecimo digestorum probat).
Для того чтобы получить вполне определенное представление о значении текста, не лишнее, быть может, выяснить себе, в чем именно заключается то затруднение, которое встретилось при решении поставленного вопроса. В этом отношении должно отметить, что именно с точки зрения связи иска о краже с ответственностью за custodia вопрос этот нимало не сомнителен и решается в высшей степени просто: с этой точки зрения иск о краже может иметь только тот должник, который отвечает за custodia, а за custodia может отвечать только тот, кто имеет чужую вещь в обладании. Ни домовладыка коммодатара, ни поручитель за него обладания ссуженной вещью не имеют, откуда отрицательный ответ как на их ответственность за custodia, так и на право их к предъявлению иска о краже очевидно вытекает само собою. Все это рассуждение действительно полностью находится у Юлиана[668] и на этом он мог бы поставить точку, если бы не должен был предусмотреть возможности еще одного возражения, уже ничего общего с вопросом о custodia не имеющего. Дело в том, что право на предъявление иска о краже вовсе не стоит в исключительной связи с ответственностью за custodia; право это, как известно, признается источниками за каждым, кто заинтересован в сохранности вещи (cujus interest rem non perire). В сохранности же вещи заинтересован, конечно, не только сам должник, но и всякий, кому приходится отвечать за должника; в этом смысле кража у него вещи, несомненно, ближайшим образом затрагивает интересы отвечающего за него поручителя, она может, если не всегда, то в отдельных случаях, затрагивать интересы и домовладыки должника[669]. Достаточно ли этого обстоятельства, чтобы признать за ними право на предъявления иска о краже?[670] На это опять следует отвечать отрицательно: даже в иске vi bonorum raptorum, область которого в общем шире области иска о краже, необходимым условием правомочия на предъявление иска ставится пропажа вещи из имущества (ex bonis, ex substantia) истца (L. 2 § 22 D. vi bon. rapt. 47. 8) и не может быть никакого сомнения в том, что то же требование относится по самому составу деликта и к иску о краже (cf. § 23 D. eod.). Интерес, наличность которого признается достаточным для обоснования иска о краже, должен, таким образом, по содержанию своему по меньшей мере сводиться к тому, чтобы похищенная вещь входила в состав имущественной сферы истца, из которой она и должна быть похищена тайно (clam - §§ 23, 24 D. eod.). Ни домовладыка должника, ни поручитель за него этому основному условию иска не удовлетворяют; они, правда, также заинтересованы в сохранности вещи, но не потому, что вещь эта похищена из их обладания, а по другим, вполне независимым от этого причинам: домовладыка - в силу особого отношения к должнику, поручитель - в силу специального юридического акта.
Таковы истинные причины, которые должны быть положены в основание отрицательного ответа на вопрос о праве домовладыки и поручителя на предъявление иска о краже. Юлиан мотивирует свой, также отрицательный ответ иначе. Он имеет в виду исключительно тот частный случай, который им поставлен на обсуждение и решает этот случай в том смысле, что право на предъявление иска о краже имеет только сам должник, отвечающий за furtum потому, что вещь утрачена по его вине (qui ob eam rem tenetur, quod ea res culpa ejus perierit). По отношению к иску о краже вообще мотивировка Юлиана, без сомнения, неправильна[671], но специально для данного случая юрист получает и этим способом совершенно правильный вывод: ни домовладыка должника, ни поручитель за него никоим образом, конечно, и не могут оказаться виновными в допущении кражи, виновным в этом может оказаться только сам должник, небрежно хранивший ссуженную ему вещь. Следует ли, однако, из этого, что и должника Юлиан признает ответственным за кражу (а следовательно, и управомоченным на предъявление иска о краже) не безусловно, а лишь в том случае, если должнику может быть поставлено в вину небрежное хранение вещи? Отрицать это, на наш взгляд, невозможно и в этом направлении старания Барона и Брукнера ограничить силу текста ссылкой на то, что Юлиан в общем признает правило о безусловной ответственности самого должника, но здесь имеет в виду по возможности резко выдвинуть на первый план то соображение, что ни домовладыка, ни поручитель и не могут нести никакой вины в похищении вещи, не могут не быть признаны искусственными[672]. Будучи формулирована в виде общей положительной нормы, мотивировка Юлиана гласила бы: "Is furti tenetur, cujus culpa res perierit", а такая норма в равной степени относится и к самому должнику. Если же сопоставить эту норму с предыдущим рассуждением Юлиана о custodia, то нельзя будет не прийти к убеждению, что он именно отрицает безусловность ответственности должника и сводит ее к ответственности за culpa in custodiendo. В противном случае несоответствие между первой и второй частью его мотивировки становилось бы вполне необъяснимым.
Точно таким же образом противоречит признанию должника безусловно ответственным за совершенную у него кражу и § 12 того же фрагмента[673]:
Quod si conduxerit quis, habebit furti actionem, si modo culpa ejus subrepta sit res.
Право на предъявление иска о краже опять поставлено в зависимость от того условия, что похищение вещи оказалось возможным лишь вследствие вины со стороны должника. И здесь попытки устранить ясный смысл текста путем толкования не могут, как нам кажется, иметь успеха. Брукнер[674] желает достигнуть этого тем, что слова "si modo" = "если только" понимает в смысле "не более как" и приходит этим способом к тому заключению, что выражение "si modo culpa" употреблено здесь в смысле "non dolo": должник имеет право предъявлять иск о краже только в том случае, если самая возможность последней не открылась лишь вследствие злого умысла с его стороны. Такое толкование едва ли достаточно обоснованно; что должник, виновный в dolus, не может предъявлять и иска о краже, - это само по себе бесспорно[675], но едва ли возможно допустить, чтобы Ульпиан употребил такой темный и запутанный оборот для выражения именно этого общеизвестного правила, которое он мог бы, если бы имел его в виду, формулировать и проще и яснее, поставив вместо слов "si modo culpa" слова "nisi dolo". Барон в своем толковании обращает внимание на то, что под термином "res" в § 12 сit., естественно, должен быть понимаем тот же объект, что и в предыдущем § 11, т.е. раб (тем более что и в следующем § 13 речь идет опять о лице подвластном - о filiusfamilias); если же это так, то весьма понятно, говорит Барон, почему § 12 делает должника ответственным лишь при наличности вины с его стороны: раб принадлежит к числу тех объектов, по отношению к которым ответственность за custodia обыкновенно места не имеет[676]. Несмотря, однако, на несомненное остроумие гипотезы Барона, и она тем не менее едва ли может быть признана правильной. Для этого прежде всего должно было бы быть допущено, что Ульпиан под словом "res" понимает здесь именно раба. Такое допущение и само по себе несколько произвольно, так как и здесь Ульпиан мог легко избежать какого бы то ни было недоразумения, сказав вместо "subrepta sit res" - "subreptus sit servus". Но и независимо от этого Барон упускает из виду, что несомненно существующая особенность норм, касающихся ответственности за custodia раба, отнюдь не влияет на ответственность должника за кражу раба (subreptio servi), а влияет лишь на ответственность за бегство его (fuga servi). К случаям непреодолимой силы относится только последнее, там же, где идет речь о краже, источники нигде не указывают, чтобы по отношению к рабу действовали бы какие-либо другие нормы, чем по отношению к остальным вещам[677].
Если, однако, оба приведенные текста не могут, по нашему мнению, быть понимаемы иначе, как в смысле отрицания безусловной ответственности должника за утрату вещи посредством кражи, то взамен этого нет оснований относить, как то обыкновенно делается, к той же группе еще один фрагмент, а именно L. 91 (90) pr. D. eod. 47. 2 (Javolenus lº. 9 ex posterioribus Labeonis), где Яволен передает относящееся к иску о краже мнение Лабеона. Текст говорит:
Fullo actione locati de domino liberatus est: negat eum furti recte acturum Labeo. Item si furti egisset, priusquam ex locato cum eo ageretur et, antequam de furto judicaretur, locati actione liberatus esset, et fur ab eo absolvi debet. Quod si nihil eorum ante accidisset, furem ei condemnari oportere. Quoniam furti eatenus habet actionem, quatenus ejus interest.
Затруднение, которое усматривается при толковании текста, состоит в следующем. Если должник безусловно отвечает за утрату вещи посредством кражи, то спрашивается, при каких же обстоятельствах он может быть освобожден от ответа по предъявленному к нему (после похищения у него вещи) иску ex locato? Возможность такого освобождения предполагается Лабеоном как нечто само собою понятное, между тем как при безусловной ответственности за кражу представить себе такой возможности, по-видимому, нельзя вовсе. С точки зрения господствующего взгляда этот текст и получает объяснение при том предположении, что должник не отвечает перед собственником, а следовательно, и не может предъявлять иска о краже в том случае, если допущение кражи ему ни в каком отношении не может быть поставлено в вину[678]. Брукнер[679] объясняет решение Лабеона тем, что причина, по которой должник в данном случае освобождается от ответственности, есть непреодолимая сила, возможность ссылки на которую признана, как полагает Брукнер, именно Лабеоном. До Лабеона, следовательно, рассматриваемый в тексте случай (освобождение должника в данных условиях от осуждения по иску из найма), по мнению Брукнера, вообще немыслим, но, установив такую новую норму, как освобождение должника случаями непреодолимой силы, Лабеон делает здесь практическое применение этого своего нововведения и указывает на возможные его последствия по отношению к праву должника на предъявление иска о краже.
Против правильности первого объяснения говорит то обстоятельство, что ни Лабеон, ни Яволен ни одним словом не упоминают о значении момента вины, между тем как такое умолчание было бы необъяснимо, если бы все решение вопроса было поставлено в зависимость именно от этого момента. Подобное же соображение говорит и против правильности объяснения Брукнера: текст ни одним словом не упоминает и о непреодолимой силе; подрывается это последнее объяснение, сверх того, еще и тем соображением, что гипотеза о введении в право понятия непреодолимой силы именно Лабеоном не выдерживает критики - это понятие, без сомнения, много древнее. Нам казалось бы, однако, что предполагаемые при толковании текста затруднения в действительности вообще невелики и что решение вопроса на деле проще, чем это можно бы думать. До сих пор, насколько нам известно, никем еще не было обращено внимание на то обстоятельство, что безусловная ответственность должника за утрату вещи вследствие кражи должна вести к безусловному же осуждению его по иску из договора, само собою разумеется, лишь в том случае, если похищение вещи лишает его возможности возвратить эту вещь по требованию кредитора. Между тем самый факт похищения вещи у должника вовсе не неизбежно влечет для него за собою такие последствия: украденная вещь может быть найдена, возвращена должнику, а этим последним кредитору. Такое возвращение вещи, естественно, делает невозможным осуждение должника по иску ex locato, но им, конечно, отнюдь не погашается раз уже возникший штрафной иск о краже (actio furti) и при этих условиях вопрос о том, кто же собственно может выступать истцом по этому последнему иску, получает особое значение. Лабеон, отрицая это право за должником, признает его тем самым за собственником, так как он не может, конечно, иметь в виду освободить вора от всякой ответственности за совершенную кражу.
Примечания:
[666] По поводу L.
2 pr. D. si quadrup. 9. 1; ср. выше, С. 303, 304.
[667] Ср. L. 10 pr.;
L. 23 D. commod. 13. 6; L. 5 §§ 7, 8 D. eod. и др. Такое пользование
подводилось под понятие furtum.
[668] Ср. текст от
слов «et Julianus ait» до слов «non habet furti actionem».
[669] Домовладыка будет
заинтересован лишь в том случае, когда на него по обстоятельствам дела
может быть возложена ответственность из договора подвластного; в том случае,
напр., если договор заключен последним по поводу пекулия.
[670] На место должника?
Рядом с ним? Очевидно, первое; права на actio furti за самим должником
Юлиан прямо не отрицает, хотя из всего смысла его рассуждения должен быть
сделан тот вывод, что при данной обстановке предъявлять иск о краже может
только собственник вещи.
[671] Она слишком тесна
– право несобственника на предъявление иска о краже вовсе не основывается
(по крайней мере в классическом праве) исключительно на ответственности
перед другим лицом за утрату вещи вследствие furtum.
[672] Bruckner. Die
Custodia, стр. 192 сл.; Baron. Arch. T. 52, стр. 71, 72; Т. 78, стр. 265,
примеч. 109. Барон полагает при этом, что L. 14 § 10 cit. и не стоит
в прямом противоречии с его взглядом; по его мнению, Юлиан признает здесь
наличность двух оснований, могущих управомочивать на предъявление иска
о краже: 1) custodia и 2) culpa. Против такого предположения говорит,
однако, формулировка общей мысли в конце текста.
[673] L. 14 §
12 cit., равно как и рассматриваемый ниже L. 91 (90) pr. D. de furt. 47.
2 относятся к договору найма. Мы их помещаем здесь для того, чтобы не
разрывать общей связи изложения; что договор найма (fullo и sarcinator)
постоянно уподобляется в этом пункте коммодату, факт нам уже неоднократно
встречавшийся.
[674] Bruckner. Die
Custodia, стр. 192 сл.
[675] Ср., напр., L.
14 § 8 D. eod. 47. 2.
[676] Baron. Arch.
T. 78, стр. 259, 260. Раньше (Arch. T. 52, стр. 76) Барон толковал это
место иначе: он признавал, что conductor rei отвечает за custodia не всегда,
а лишь в отдельных случаях и видел поэтому в § 12 cit. подтверждение
того правила, что вообще conductor отвечает не более как за culpa.
[677] Ср., напр., L.
14 §§ 5–7 D. de furt. 47. 2. В подтверждение того, что кража
раба рассматривается источниками наравне с кражей всякой другой вещи,
могут быть приведены многочисленные данные; мы не останавливаемся здесь
на этом вопросе подробнее потому, что нам придется еще иметь с ним дело
ниже.
[678] Ср., напр., Hasse.
Die Culpa, § 91, стр. 352.
[679] Bruckner. Die
Custodia, стр. 194 сл.