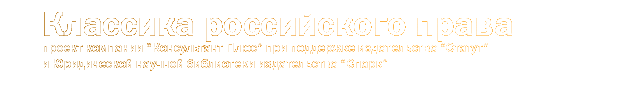Пассек Е.В. Неимущественный интерес и непреодолимая сила в гражданском праве
Не входя в детальную полемику с этими мнениями названных авторов, мы со своей стороны полагаем, что смысл всей совокупности приведенных текстов как нельзя более ясен: ни коммодатар, ни лица, принявшие чужие вещи на хранение за вознаграждение (по договору найма - qui servandum aliquid conducunt), не несут перед собственником вещей безусловной ответственности за уничтожение и повреждение этих вещей третьими лицами (за damnum injuria ab alio datum). Именно это, но и не более того имел в виду сказать Юлиан, формулируя то правило, которое выражено им в L. 19 cit. Что это правило не им установлено и не представляет собою какого-либо нововведения, а есть нечто всем известное и общепризнанное, на это указывает самый способ выражения, каким пользуется Юлиан: "procul dubio est". Ни один римский юрист, хотя бы то был и Юлиан, не решится сказать о такой норме, которая представляет из себя его личное мнение, отступающее к тому же от общепризнанного в его время взгляда[650]. Лично Юлиану принадлежит здесь лишь обоснование этой "несомненной" нормы. В этом обосновании, в силу которого освобождение должника в подобного рода случаях оправдывается невозможностью для него принять меры к охране от вредного воздействия третьих лиц, бесспорно, проявляется мысль о том, что в случаях такого рода должник отвечает не более как за culpa in custodiendo, но отсюда никоим образом еще не следует, чтобы Юлиан находился при этом в противоречии с общепризнанным в его время взглядом[651]. Само собою разумеется, что Юлиан никоим образом также не имел и не мог иметь в виду утверждать, что должник не отвечает за уничтожение и за повреждение вещи даже и в том случае, если ему может быть поставлена в упрек какая-либо небрежность в охране вещи (culpa in custodiendo); придавать словам Юлиана такой смысл, освобождающий должника от ответственности даже за его собственную вину, значило бы в сущности обвинять самого Юлиана в незнании наиболее элементарных норм, регулирующих ответственность по договорам[652]. С этой точки зрения не может быть приписываемо большого значения и тем поправкам, которые сделаны к тексту Юлиана Марцеллом и Ульпианом (L. 41 cit.): эти поправки констатируют лишь такой факт, который и без них сам собою ясен. Они к тому же и сами по себе не направлены против мотивировки Юлиана в ее целом: Марцелл замечает только, что иногда (interdum) должник может отвечать и за damnum injuria datum; во-первых, тогда, когда причинение вреда могло быть предотвращено должником (sive custodiri potuit, ne damnum daretur); во-вторых, тогда, когда вред нанесен самим должником (sive ipse custos damnum dedit, - последний случай, кстати сказать, Юлианом в виду вовсе и не имелся, так как он говорит о damnum ab alio datum). Но и в том и в другом случае должник несет ответственность за свою собственную вину, а освобождать его от ответственности за таковую не имел в виду и Юлиан. Поправка Марцелла, таким образом, ничего по существу нового в формулировку Юлиана не вносит и выраженное в последней общее правило остается поэтому в полной силе[653]. Мотивировка Юлиана выражена, быть может, в чрезмерно категорической форме, но это и есть единственный упрек, который может ему быть сделан; ни в каких разъяснениях по существу она все-таки не нуждается.
Заключающаяся в L. 19. cit. юридическая норма (отрицание безусловной ответственности должника за damnum injuria ab alio datum) находит полное подтверждение и дальнейшее разъяснение в L. 11 § 9 D. cit. 9. 2. Ссуженная вещь (одежда) повреждена (разорвана) третьим лицом. На вопрос о том, кому принадлежит право на предъявление иска legis Aquiliae, Юлиан и здесь отвечает: собственнику вещи, не коммодатару. Мотивировки нет, но, сопоставляя этот ответ юриста со всем, что нам известно о нормах, регулирующих ответственность за кражу, нельзя сомневаться в том, что отрицание за коммодатаром права на предъявление иска legis Aquiliae должно быть обоснованно именно тем, что в данном случае он не несет перед собственником безусловной ответственности за повреждение вещи. Такое предположение ставится вне сомнения сравнением L. 11 § 9 cit. c L. 2 pr. D. si quadrup. 9. 1 (выше, С. 303): если при повреждении или уничтожении вещи животным должник имеет право на предъявление иска de pauperie потому, что он, отвечая в этом отношении за целость вещи, несет от происшедшего ущерб (quia eo quod tenentur damnum videntur pati), то в основание противоположного решения для Аквилиева иска должен, конечно, быть положен именно противоположный мотив - damnum non videntur pati, quia non tenentur.
Все это, вместе взятое; и позволяет признать бесспорным тот вывод, который был нами формулирован раньше (С. 304) в виде подлежащего доказательству тезиса: коммодатар не отвечает ни за уничтожение, ни за повреждение вещи третьими лицами, если только на него не падает никакой вины в допущении происшедшего от этого вреда. Мы должны, однако, пойти еще дальше и добавить к этому следующее: точно также не отвечает коммодатар и за всякую другую случайную утрату вещи (например, за случайную потерю ее). Эта последняя норма не менее важная, чем предыдущая, в свою очередь подтверждается рядом источников, об отношении к которым различных авторов должно быть в общем повторено то же, что уже было сказано выше (С. 305), с тою лишь разницей, что тексты этой группы стоят в полном противоречии и со взглядом Брукнера, так как они дают полное основание утверждать, что должник отнюдь не несет безусловной ответственности за все случаи утраты владения вещью и что нельзя, следовательно, именно в таком содержании ответственности усматривать сущность понятия custodia, а в связи с этим и понятия непреодолимой силы.
Начнем с фрагмента, принадлежащего одному из старых юристов, современнику Лабеона, Картилию, мнение которого сообщает Ульпиан в L. 5 § 13 D. commod. 13. 6 (Ulpianus lº. 28 ad edict.):
Si me rogaveris, ut servum tibi cum lance commodarem et servus lancem perdiderit, Cartilius ait periculum ad te respicere, nam et lancem videri commodatam: quare culpam in eam quoque praestandam. Plane si servus cum ea fugerit, eum qui commodatum accepit non teneri, nisi fugae praestitit culpam.
Пернис усматривает в этом фрагменте разногласие между Картилием, с одной стороны, и Ульпианом - с другой[654]. Картилий, по его мнению, возлагает на коммодатара безусловную ответственность за потерю блюда рабом. Ульпиан, следуя изменившемуся к его времени взгляду, вносит поправку в том смысле, что должник отвечает за потерю лишь в случае наличности вины. Барон[655] вполне справедливо возражает на это, что в § 13 сit. Ульпиан нигде и ничего не говорит от своего имени, а везде выступает лишь референтом слов Картилия, что видно уже и из той косвенной конструкции речи, какой он здесь пользуется при передаче чужой мысли. Но, признавая, таким образом, что слова "quare culpam in eam quoque praestandam" принадлежат, как и все остальное содержание текста, самому Картилию, Барон тем не менее не считает возможным согласиться с тем, что коммодатар при данных обстоятельствах отвечает не более как за вину; выражение "quare culpam in eam quoque praestandam" он относит к вине не самого коммодатара, а к вине потерявшего блюдо раба, делая из этого тот вывод, что коммодатар отвечает здесь за чужую вину (за вину раба) и что ответственность самого коммодатара, следовательно, безусловна и ни в какой зависимости от его собственной вины не стоит.
Поскольку, однако, Барон прав, приписывая именно Картилию все сказанное в L. 5 § 13 cit., постольку же должно быть признано искусственным его собственное толкование этого спорного текста. Если бы Картилий действительно желал выразить ту мысль, которую ему приписывает Барон (мысль, что коммодатар отвечает и за чужую вину), то он мог и должен был бы сделать это яснее. Для этого ему стоило бы или прибавить слово "servi" между словами "culpam" и "praestandam", или еще проще выпустить всю написанную им фразу о culpa. Что Картилий, наоборот, рассматривает весь данный случай с точки зрения виновности или невиновности самого должника, ясно уже и из того, что тот же момент вины он выдвигает на первый план и для второго из приведенных в L. 5 § 13 cit. случаев - для утраты блюда вследствие похищения его рабом при бегстве; в этом случае коммодатар не отвечает ни за раба, ни за блюдо, "nisi fugae praestitit culpam". По отношению к самому рабу в этом решении ничего особенного не заключается, так как за "fugae servorum qui custodiri non solent" должник и вообще не отвечает, но важно здесь то, что бегство раба освобождает должника от ответственности и за утрату блюда, хотя те причины, которыми обыкновенно оправдывается особенность в ответственности за custodia самого раба, никоим образом не могут относиться к неодушевленным, переданным вместе с ним предметам. Аналогия первого случая со вторым, а равно и весь ход развития мысли Картилия, не может поэтому, как нам кажется, не привести к тому заключению, что за утрату вещи описанным способом (за потерю ее) коммодатар действительно отвечает лишь в том случае, если на него падает какая-либо вина в наступлении этого события.
Ответственным только за culpa объявляют, далее, коммодатара и те тексты, которые рассматривают случай утраты вещи при отсылке ее от должника к кредитору через посредство третьего лица.
Сюда относится, во-первых, L. 12 § 1 D. commod. 13. 6 Ulpianus lº. 29 ad Sabinum.
Commodatam rem missus qui repeteret cum recepisset, aufugit. Si dominus ei dari jusserat, domino perit: si commonendi causa miserat ut referretur res commodata, ei cui commodata est.
Уже Гольдшмидт[656] высказался в том смысле, что коммодатар, вручивший вещь такому лицу, которое было к нему послано кредитором лишь для напоминания о возвращении вещи (commonendi causa), виновен потому, что, поступая таким образом, он действует против ясно выраженной воли собственника вещи. То обстоятельство, что напоминание о долге через посланного никоим образом не равносильно поручению уплатить этот долг тому же посланному и что должник, тем не менее вручающий такому лицу объект долга, по меньшей мере действует на свой страх и риск, до такой степени очевидно, что возражения Барона против этого объяснения Гольдшмидта совершенно непонятны[657]. Если даже и согласиться с Бароном в том, что вопрос об ответственности коммодатара решается здесь независимо от вины последнего именно по отношению к неосмотрительному выбору посланного (от culpa in eligendo), то отсюда не следует еще, чтобы коммодатар признавался поэтому вообще свободным и от какой бы то ни было вины: вина его состоит не в неосмотрительности выбора, а в том, что он передает вещь такому лицу, на вручение которому он не был уполномочен собственником.
В непосредственной связи с L. 12 § 1 cit. стоят, далее, предшествующие ему L. 10 § 1 - L. 12 pr. D. eod. 13. 6. Эти последние тексты говорят следующее:
L. 10 § 1 D. cit. (Ulpianus lº. 29 ad Sabinum). Si rem inspectori dedi, an similis sit ei cui commodata res est, quaeritur. Et si quidem mei causa dedi, dum volo pretium exquirere, dolum mihi tantum praestabit: si sui, et custodiam: et ideo furti habebit actionem. Sed et si dum refertur periit, si quidem ego mandaveram per quem remitteret, periculum meum erit: si vero ipse cui voluit commisit, aeque culpam mihi praestabit, si sui causa accepit.
L. II eod. (Paulus lº. 5 ad Sabinum) qui non tam idoneum hominem elegerit, ut recte id perferri possit:
L. 12 pr. eod. (Ulpianus lº. 29 ad Sabinum) si mei causa, dolum tantum.
Ближайшее отношение к интересующему нас вопросу имеет вторая часть текста (от слов "sed et si dum refertur periit" до конца), где Ульпиан категорически признает должника ответственным только за вину. Барон пытается устранить доказательную силу этого фрагмента тем предположением, что слово "culpam" в конце L. 10 § 1 cit. должно по соответствию с предыдущим быть исправлено на "custodiam" и что те слова, которые говорят об ответственности должника лишь за culpa in eligendo (L. 11 cit.), принадлежат не Ульпиану, а Павлу, в подлинном тексте которого они могли стоять вовсе не в той связи, в какой они помещены здесь кодификаторами[658]. Брукнер, признавая, что в данном случае должник действительно отвечает не более как за culpa in eligendo, объясняет это тем, что, передав владение вещью посланному, должник тем самым освобождает себя от ответственности за custodia в техническом смысле слова и с этого момента отвечает лишь за culpa in custodiendo[659]. Пернис, наконец, объясняет этот фрагмент со своей точки зрения полным уравнением понятий custodia, с одной стороны, и diligentia - с другой, ко времени Ульпиана.
Что касается до предложенного Бароном изменения в чтении текста, то уже Пернис заметил на это, что для такого изменения нет достаточных внешних оснований[660]. Едва ли, однако, есть для этого и основания внутренние, т.е. вызываемые каким-либо несоответствием в содержании самого текста. Ульпиан, как это явствует из самого способа его изложения, никоим образом не имеет в виду установить одну общую мерку для ответственности должника за всевозможные случаи утраты вещи; напротив того, он сам обращает внимание на то, что в данном отношении следует различать два отдельных случая: должник отвечает за custodia, пока вещь находится у него в руках, но отвечает не более как за culpa с тех пор, как он принял все надлежащие меры к возвращению вещи кредитору. Точнее: он обязан отнестись с надлежащей осмотрительностью к выбору лица, которому он вручает вещь для передачи ее кредитору, но не несет безусловной ответственности за все то, что может случиться с вещью далее[661]. Не имеет значения и ссылка Барона на то, что слова, говорящие о culpa in eligendo, лишены для текста Ульпиана доказательной силы, так как слова эти принадлежат не Ульпиану, а Павлу: самое правило о том, что должник отвечает лишь за culpa, все-таки формулировано самим Ульпианом, а характеристика этой вины, как вины именно in eligendo, будь она даже и неправильна (чего, однако, в данном случае нет)[662], существенного значения для правильности самого принципа иметь не может.
К той же категории относится, наконец, и известный L. 20 D. commod. 13. 6 (Julianus lº. 3 ad Ursejum Ferocem). Юлиан говорит:
Argentum commodatum si tam idoneo servo meo tradidissem ad te perferendum, ut non debuerit quis aestimare futurum, ut a quibusdam malis hominibus deciperetur, tuum, non meum detrimentum erit, si id mali homines intercepissent.
И здесь невозможно никакое естественное объяснение кроме того, что юрист делает коммодатара при упомянутых им условиях ответственным не более как за culpa (притом, очевидно, in eligendo, чем в свою очередь подтверждается та же конструкция и в L. 10 § 1 - L. 12 pr. D. cit.) с того момента, как должник принял все надлежащие меры к доставлению вещи обратно кредитору. Брукнер и дает поэтому данному тексту то же объяснение, что и предыдущим[663]. Барон, склонявшийся сперва к той мысли, что вся фактическая обстановка случая указывает на непреодолимую силу (так как под mali homines Юлиан должен был разуметь разбойников, а отнятие ими у раба вещи отнести поэтому к предусмотренному в списках непреодолимой силы случаю vis latronum или praedonum), впоследствии отказался от этого толкования и обратил внимание на то, что спорный текст принадлежит Юлиану, который вообще держался по вопросу о пределах ответственности коммодатара и аналогичных ему должников особой точки зрения, признавая их во всех без исключения случаях ответственными не более чем за culpa[664]. Последнее замечание, составляющее лишь признание в этом пункте проводимого Пернисом общего взгляда на занимаемое Юлианом положение, само по себе, быть может, и верно, - мы увидим сейчас, что по вопросу о праве должника на предъявление иска о краже Юлиан, по-видимому, действительно держался особого мнения. Но отсюда никоим образом еще не следует, чтобы он и в данном случае расходился во взглядах с остальными юристами; тем более что его решение вполне совпадает с решениями, данными для аналогичных случаев не только Ульпианом, но еще и Картилием.
Таким образом, необходимо остановиться на одном из двух. Или устранить все приведенные тексты посредством особого толкования, или же признать, что все они согласны в одном, именно в том, что должник отвечает в данного рода случаях не более, как за culpa levis. Первое, на наш взгляд, невозможно без значительных натяжек, за второе говорят все данные, начиная с буквального смысла текстов и кончая полным единогласием между всеми отдельными юристами. Добавим к этому, что общее подтверждение той же нормы можно находить еще и в L. 18 § 4 D. commod. 13. 6. Говоря здесь о необходимости для должника прибегать в отдельных случаях в коммодате к contrarium judicium, хотя все свои встречные требования к кредитору он может проводить jure pensationis и при взыскании с него recto judicio, Гай поясняет, что иногда одного права зачета (pensatio) для защиты интересов должника может оказаться недостаточным. Может случиться, например, говорит он, что должник имеет получить с кредитора больше, чем он сам обязан последнему уплатить; может случиться, что судья не примет права на зачет во внимание; может случиться, наконец, что прямой иск к должнику вообще не будет предъявлен по той или иной причине, например, потому, что ссуженная вещь "casu intercidit". Гай признает, следовательно, что освобождение должника от ответственности перед кредитором возможно и при случайной утрате вещи, причем он не отмечает, что утрата эта должна последовать непременно от случая "cui resiti non potest", о котором он ведет речь в начале того же фрагмента[665].
Примечания:
[650] Против Барона.
[651] Против Перниса.
[652] Против Барона.
[653] Против Барона.
[654] Pernice. Labeo
II, стр. 355, примеч. 40. Пернис замечает здесь, что цель такого коммодата
(раба с блюдом) ему не ясна. Дело идет, вероятно, о ссуде столового серебра
для устройства угощения (cena), случай, о котором источники упоминают
неоднократно (ср., напр., L. 18 pr. i. f. D. eod.); здесь вместе с посудой
ссужена и прислуга.
[655] Baron. Arch.
T. 78, стр. 266, 267; ср. Т. 52, стр. 70.
[656] Goldschmidt.
Verantwortlichk. d. Schuldn. f. s. Gehilf. (Ztschrft. f. Handelsr., T.
16, стр. 316 в к.
[657] Baron. Arch.
T. 78, стр. 263. Этот случай не тождественен даже с тем, когда должник
сам выбирает лицо для передачи вещи кредитору: отправляя посланного лишь
«commonendi causa», кредитор тем самым показывает, что он (кредитор) не
считает посланного подходящим лицом для вручения ему вещи.
[658] Baron. Arch.
T. 52, стр. 87; Т. 78, стр. 261 сл. Ср. Pernice. Labeo. II, стр. 354,
примеч. 40.
[659] Bruckner. Die
Custodia, стр. 200 сл.
[660] Pernice. Labeo.
I c. (стр. 354, примеч. 40).
[661] В этом отношении
самый факт изменения ответственности должника с того момента, как он выпускает
вещь из рук (передает detentio другому лицу), подмечен Брукнером, без
сомнения, верно, хотя в остальном замечание Барона (Arch. T. 78, cтр.
265) о «чрезмерной тонкости» (Spitzfindigkeit) в толковании Брукнера не
лишено справедливости.
[662] В большинстве
случаев вина сведется именно к неосторожному выбору посланного (с той
же точки зрения рассматривает вопрос и L. 20 D. commod. 13. 6), хотя легко
представить себе со стороны должника и небрежность другого рода, напр.
дурную упаковку вещи, необращение должником внимания посланного на ценность
порученной ему вещи и т.п.
[663] Bruckner. Die
Custodia, l. c. (стр. 200 сл.).
[664] Baron. Arch.
T. 52, стр. 70 в к., Т. 78, стр. 264, 265. На наш взгляд, не может быть
никакого сомнения в том, что юридическая квалификация случая (interceptio
вещи со стороны mali homines) должна быть дана в том смысле, что мы имеем
здесь дело с furtum (об intercipere в этом значении ср. L. 10 pr. D. de
condict. furt. 13. 1; L. 38 § 1 D. de solut. 46. 3; L. 1 § 2;
L. 14 § 17; L. 33 D. de furt. 47. 2). Этот текст может поэтому быть
отнесен к числу тех, в которых отрицается безусловность ответственности
должника за кражу (ср. ниже, С. 315 сл.); различие его от последних состоит
только в том, что в данном случае detentio не находится непосредственно
у должника, а осуществляется им через третье лицо; так как, однако, это
третье лицо есть раб самого должника, то это различие существенного значения
не имеет.
[665] Именно поэтому,
однако, за таким замечанием Гая абсолютно доказательной силы признаваемо
быть и не может. Мы упоминаем о нем лишь в подтверждении того, что достаточно
ясно вытекает уже и из всей совокупности других источников.