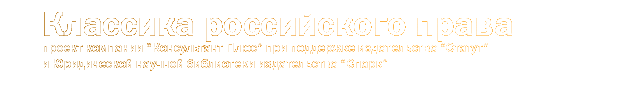Покровский И.А. Основные проблемы гражданского права
Но этот барьер был слаб. Если заключение сделок с известным характером предосудительно в виде промысла, то казалось только последовательным признать, что и всякая такая сделка в отдельности этически и юридически недопустима. Именно эта последовательность диктовала Гирке выставленное им требование общей нормы против ростовщических сделок, какой бы вид они ни имели и каких бы объектов они ни касались.
И барьер пал. Комиссия, выбранная рейхстагом, к § 138, о котором у нас была речь и который гласит: "Сделка, противная добрым нравам, ничтожна", сделала прибавку: "В особенности ничтожна сделка, в силу которой одно лицо, эксплуатируя ("unter Ausbeutung") нужду, легкомыслие или неопытность другого, выговаривает себе или постороннему такие имущественные выгоды, которые настолько превышают его обязанности, что при обстоятельствах данного случая стоят к последним в очевидном несоответствии".
Так появилась в Германском Уложении знаменитая отныне "общая норма" против экономической эксплуатации, норма, которая многим кажется лучшим украшением этого кодекса, придающим ему истинный социальный характер.
Но, появившись, она не осталась местным достоянием Германии. Как во многих других вопросах, так и здесь, примеру Германского Уложения последовали другие новейшие кодексы, вследствие чего эта норма приобретает характер некоторого универсального принципа современного гражданского права.
Прежде всего по следам Германского Уложения пошла наша русская комиссия, вырабатывавшая проект нашего гражданского кодекса. Перечисляя в объяснениях к (раньше других опубликованной) книге V проекта об обязательствах те основные начала, которыми она руководилась, комиссия говорит: "Закон прежде всего должен быть справедливым. Ограждая равноправность сторон в обязательственных отношениях, закон вместе с тем должен оградить интересы всех слабых, беспомощных, словом, всех тех, кто по своему личному или имущественному положению нуждается в особой защите закона, не будучи в состоянии с достаточной энергией отстаивать свои права. В этом отношении можно указать на принятые проектом меры против эксплуатации нужды, легкомыслия, неопытности или несчастья". Такой мерой в особенности являлась ст. 31 первого проекта, в общем аналогичная § 138 германского. Меняя некоторые свои оттенки, эта статья дошла и до нынешнего (внесенного в Государственную Думу) проекта, в котором она является также статьей 31 и где она гласит:
"Договор может быть также оспорен и в тех случаях, когда кто-либо, злоупотребляя принадлежащей ему властью или оказываемым ему доверием, либо пользуясь нуждою или несчастьем другого, заключит с ним чрезмерно невыгодный для него договор".
Под влиянием того же германского примера появилась подобная же статья и в пересмотренном Швейцарском Уложении об обязательствах 1911 года: "Если в договоре, заключение которого было вызвано тем, что одна сторона воспользовалась нуждою, неопытностью или легкомыслием другой, существует очевидное несоответствие между взаимными обязанностями, то сторона потерпевшая в течение года может заявить об отказе от договора и потребовать назад то, что уже было уплачено" (ст. 21).
Конечно, между всеми этими статьями есть немаловажные теоретические и практические различия (укажем, например, только на то, что в то время, как Германское Уложение рассматривает сделки подобного рода как противные добрым нравам и потому объявляет их ничтожными, Швейцарский кодекс и наш проект ставят их вне всякой связи с добрыми нравами и признают их только оспоримыми); но эти различия нас не могут интересовать здесь. Равным образом мы не будем касаться и тех случаев, когда имело место "злоупотребление принадлежащей властью или оказываемым доверием": сделки в этих случаях и без данной статьи были бы недействительны (принуждение, обман). Из всего исторического происхождения этих статей явствует, что они создавались не для этих случаев и что центр их содержания заключается не в этом, а в запрещении пользоваться нуждою другого "чрезмерно"; именно в этом ведь состоит отводимая им важнейшая "социальная" миссия.
Никто, разумеется, не станет отрицать благородства тех мотивов, которые вызвали появление этих статей; никто не станет отрицать и возвышенности той цели, для служения которой они призваны. Но ни то, ни другое не освобождает нас от обязанности проверить, точно ли они могут иметь те благодетельные последствия, которых от них ожидают. Даже более того: чем дороже для нас эта цель, чем серьезнее наши мотивы, тем внимательнее и строже мы должны отнестись к тем средствам, которые мы избираем; ложные средства часто компрометируют самую цель.
Присмотримся поэтому к указанным статьям ближе и прежде всего обратим внимание на их юридическую структуру.
Для уничтожения того или другого договора как "эксплуататорского" или "ростовщического" они устанавливают двоякое предположение: с одной стороны, необходимо в лице контрагента намерение воспользоваться "нуж дой" другого (субъективный признак), а, с другой стороны, не обходимо, чтобы несоответствие между взаимными обязанностями контр агентов было "явным" или "чрезмерным" (объективный приз нак). Но действительно ли оба эти признака достаточно надежны?
Возьмем первый из них - намерение воспользоваться нуждою другого - и бросим хотя бы самый поверхностный взгляд вокруг нас на всю область экономического оборота. Чем иным руководится этот последний при определении сравнительной ценности обмениваемых благ, как не степенью "нужды" в них? Повышается нужда на продукты, на помещения, на рабочие руки - повышается и их ценность. Всякий обладатель того или иного блага пользуется всегда возрастающей нуждой в нем и стремится уступить его возможно дороже. Ведь в этом же и состоит закон "спроса и предложения". И если мы не будем непростительно близоруки, мы должны будем признать, что необходимый для уничтожения сделки субъективный признак мы найдем всегда - при всякой нормальной сделке делового характера. Следовательно, этот признак в качестве юридического критерия нам не дает ничего: он - мнимый признак, слово, лишенное содержания.
Перейдем к другому признаку - объективному: сделка может быть уничтожена тогда, если она содержит "чрезмерную" невы году для одной из сторон. Что такое "чрезмерность", закон не определяет; решать этот вопрос in concreto должен будет суд.
Представим себе теперь (а иначе мы не имеем права), что законодатель серьезно желает полного применения этой статьи, и отдадим себе отчет в ее значении для всего экономического оборота. Всякая сделка подлежит теперь контролю суда не только с точки зрения ее юридических условий, но и с точки зрения экономического соответствия обмениваемых при ее помощи благ, с точки зрения меновой эквивалентности их. На судью, таким образом, возлагается задача, до сих пор небывалая: кроме своих юридических функций, он должен нести на себе функции экономические; кроме юриста, он должен стать универсальным знатоком всего товарообмена, т. е. совместить в себе то, чего не может вместить самый тертый и разносторонний делец. Конечно, нам скажут, что судья может привлекать к себе на помощь экспертов, - но какова бы ни была экспертиза, конечное решение должен будет взять все-таки на свою совесть суд. Не станем говорить о том, насколько на этой почве может процвести доктринерство или судейский каприз, но даже самый добросовестный судья будет постоянно в затруднительном положении: какие высокие требования мы ни предъявляли бы к интеллектуальным и моральным качествам судебного персонала, мы не можем требовать от него экономического всеведения. Всякий "Heroenkultus"[296] должен потерпеть здесь крушение.
Но и это не составляет еще самого слабого места подобных статей. Оно заключается в том, что благодаря им весь экономический оборот, другими словами - вся экономическая жизнь, ставится под судебный контроль, берется в судебную опеку. Желая уничтожить лазейки для ростовщичества, мы постепенно запирали один выход за другим; мы гнались за ним повсюду, куда оно ни уходило; мы создали наконец общую норму против него и этим как будто поймали его окончательно. Но оглянемся теперь, и мы увидим, что вместе с ростовщичеством мы поймали в тиски весь оборот, что вместе с ростовщиками попали под контроль и опеку все участники экономической жизни; все они взяты под подозрение и в любой момент каждый из них может быть подвергнут своеобразному судебному обыску. Можно, конечно, утешать себя тем, чем утешали себя известные герои Салтыкова, т. е. соображениями о том, что после этого обыска и досмотра "истина все же воссияет"; однако вспомним и то, что даже эти герои роптали: "Не затем же я гулять пошел, чтобы истина в участке воссияла!" Не забудем того, насколько подобная норма будет способствовать развитию сутяжничества и волокиты: достаточно всякому должнику заявить о "чрезмерности" выгод для кредитора, и дело, юридически ясное, как день, пойдет гулять по судебным инстанциям, быть может, на долгие годы. Конечно, "истина, в конце концов, воссияет", но нередко уже тогда, когда у кредитора "роса очи выест".
Но и независимо от этого может ли право принципиально брать на себя задачу экономического регулирования оборота путем таких принудительных норм? Может ли оно вступать в борьбу с законом спроса и предложения такими средствами? Мы думаем, что нет. Конечно, принудительное регулирование цен мыслимо при известных исключительных обстоятельствах как нечто чрезвычайное и временное, но оно немыслимо как нечто постоянное - до тех пор, пока государство не возьмет в свои руки всех операций производства и распределения. Теперь же оно может достигать чего-либо только экономическим же влиянием на спрос и предложение - регулированием подвоза вздорожавших товаров, открытием более легкого кредита и т. д. Пока этого нет, пока реальные условия спроса и предложения не изменились, никакие судебные решения ничего в явлении товарообмена не внесут. И возлагать с этой стороны какие-либо надежды на охрану "экономически слабых" - значит питать только совершенно несбыточные иллюзии:
Но это подводит нас уже к другой стороне рассматриваемых норм - к стороне экономической: точно ли они имеют ту высокую "социальную" ценность, которая им приписывается?
Как мы видели, общим назначением этих норм, по мысли их авторов, является помощь "экономически слабейшим". При этом имелись в виду именно "экономически слабейшие" классы населения, вокруг которых только и вращается весь нынешний "социальный вопрос". В какой же мере наши статьи могут быть им полезны?
Прежде всего обратим внимание на то, что в нынешних редакциях статей эта сторона совершенно затушевывается: запрещается вообще пользоваться чужой нуждой для приобретения себе "чрезмерных выгод". Вследствие этого правило будет действовать даже тогда, когда в силу каких-нибудь исключительных обстоятельств "экономически слабые" окажутся в состоянии диктовать свои условия "экономически сильным". Представим себе случай, когда прокутившийся в данный момент барин обращается с просьбой о займе к лакею или швейцару; представим себе случай, когда для расчистки пути от заносов необходимы экстренно рабочие руки соседних крестьян и т. д., и т. д. Если все эти "экономически слабые" лица вздумают воспользоваться редким для них благоприятным случаем во всю меру закона спроса и предложения, все признаки ростовщичества будут налицо. Вопрос о чрезмерности не будет вызывать никаких сомнений, так как обычный уровень их вознаграждения будет всегда говорить против них. В результате обычная "эксплуатация" их труда останется при них, но те редкие случаи, когда конъюнктура сложится для них благоприятно, правом для них будут уничтожены. А в общем балансе рассматриваемых норм и эта их сторона имеет немаловажное значение.
Совершенно очевидно, далее, что реальной помощи "экономически слабым" эти статьи не дадут, так как их положение как экономически слабых создается не "чрезмерной", а самой обыкновенной эксплуатацией, которая перед всяким судом пройдет без сучка и задоринки. А пока они будут оставаться в этом положении, они будут нуждаться и в кредите, и в распродаже своего скарба при всяких экстренных случаях для получения необходимой суммы денег. "Спрос" на кредит будет, будет, конечно, и "предложение", и притом, разумеется, самое ростовщическое: нельзя же все приписывать только жадности человеческой натуры, надо помнить и о том, что всякий кредит подобного рода должникам совершенно не обеспечен и полон риска. Уничтожить этого "предложения" нельзя, и мы знаем уже, что всякие законы против ростовщичества оказывались в истории в этом отношении бессильными. Не уничтожат его, конечно, и наши статьи, но они повысят риск ростовщика еще более, а это отзовется только одним - новым повышением выговариваемых им себе премий. Риск недействительности сделки будет переложен на плечи потребителей кредита, и таким образом положение "экономически слабых" вместо ожидаемого улучшения претерпит только новое и весьма существенное ухудшение. Пусть в одном случае из десяти Фемида будет иметь удовольствие изобличить ростовщика и уничтожить ростовщическую сделку, но мы не должны забывать, что слух о таком одном случае, проникнув в "экономическое подполье", вызовет там немедленно общее вздорожание "кредитных операций" к несомненному ущербу его подневольных клиентов:
Правильно говорит Planiol: "Есть много сторонников законов против ростовщичества, но я не из их числа. Такие законы ничему не помогают, а только заставляют ростовщиков скрываться еще глубже и брать за риск еще больше. Защита законов, в конце концов, обращается в тягость для тех, кого защищать хотели"[297].
Уже этих соображений достаточно для того, чтобы составить себе надлежащее представление об истинной ценности всех норм подобного рода. Но их вредное влияние идет гораздо глубже, оно проникает в самую психологию общества.
Весь мир изнывает под гнетом "социального вопроса", ищет средств для уврачевания все шире и шире развертывающихся социальных бедствий. И в этот момент мучительных исканий законодатель бросает свою общую норму, запрещающую "чрезмерно" пользоваться "нуждой" другого. Появлению этой нормы предшествуют сладкие "объяснения" о необходимости усиленной защиты "экономически слабых" и "более социального" направления в законодательстве. Вступление этой нормы в действие, как мы это видим на примере Германии, сопровождается кликами восторженных приветствий. Все это может создавать в "буржуазных" слоях общества ощущение успокоения: как будто бы "социальный вопрос" разрешен, беды уврачеваны; над всей областью экономических отношений бдит неусыпное око правосудия и справедливости, которое не допустит никакой эксплуатации одних другими:
Вот в этом-то психологическом влиянии подобных законодательных мер скрывается их наибольшая опасность, их наибольший социальный вред. Они - своего рода общественный наркоз, усыпляющий мысль и совесть, отвлекающий их от более трудных, но единственно действительных приемов лечения. При таких условиях первой обязанностью науки является предостережение против увлечения наркозом и предупреждение: если вы подлинно и искренне хотите помочь "экономически слабым", ищите других, более действительных средств[298]:
* * *
Мы пересмотрели общее положение принципа договорной свободы в современном праве. Мы видели, что если в некоторых отношениях (например, в вопросе об обязательствах на действия неимущественные) содержание этого принципа расширяется, то в общем итоге, наоборот, основной тенденцией времени является стремление к его ограничению. Стремление это имеет своим источником экономические язвы современного капиталистического строя и потому ярче всего оно сказывается именно в области договоров имущественных; даже "добрые нравы" и "добрая совесть" привлекаются в жизни главным образом для наиболее желательного урегулирования этих последних. Ограничительная тенденция по адресу договорной свободы является бесспорным отражением того смутного общественного сознания, что исключительное господство индивидуалистических начал в экономической области не может привести к такому регулированию общественной жизни, которого требует развившаяся социальная этика. Чувствуется, что здесь необходима не только "индивидуализация", но и "солидаризация" или "социализация".
И вот в качестве универсального средства для осуществления такой "социализации" выдвигается "свободное судейское правотворение". Внеюридические инстанции, которые привлекает право для своего пополнения, растут в числе и расширяются в объеме; но мы видели, что все они в конечном счете служат только прикрытием для свободного усмотрения судьи. Этот последний оказывается контролером гражданской жизни не только с точки зрения ее законности, но и с точки зрения "общественного порядка", "добрых нравов", "доброй совести", экономической справедливости. Целые узлы важнейших социальных проблем переброшены законодателем на плечи судьи: не умея разрешить их сам, он ждет разрешения от этого последнего.
И когда отдаешь себе отчет во всей огромности этих проблем, не можешь не усомниться в правильности такого приема социального регулирования. Самоустранение законодателя в расчете на судью кажется если не трусостью, то во всяком случае немощностью.
Устраняясь от непосредственного разрешения выдвигаемых жизнью вопросов и распыляя общественную энергию на борьбу по мелочам в конкретных судебных процессах, законодатель в то же время подобным приемом создает почти полную зависимость всей гражданской жизни от дискреционного усмотрения бесконечной массы отдельных лиц (судей). Нечего и говорить о том, в какой степени этим вносится во всю область юридических отношений элемент случайности; почти весь гражданский правопорядок приобретает характер неопределенности и прекарности:
Любопытно в этом отношении собственное признание одного из наиболее ярких представителей направления "свободного права" - Эрлиха - в его недавнем произведении "Grundlegung der Soziologie des Rechts"[299] (1913, стр. 151). "Что такое, по германскому праву, представляет злоупотребление правом, в каких случаях есть нарушение "Treu und Glauben" или "добрых нравов" - этого мы сейчас не знаем, так как закон ничего об этом не говорит; мы узнаем это только из судебных решений через сто лет:" Но ведь жить приходится не через сто лет, а сейчас:
Думается, что, идя так, мы едва ли идем по правильному пути. Если неверна была идея полного невмешательства государства в область экономических отношений, то едва ли верна и мысль о регулировании этих отношений при помощи "справедливого усмотрения судьи". С точки зрения самых элементарных интересов личности, последнее горше первого, горше всякого самого ограничительного законодательства, а с точки зрения "солидаризации", судейское усмотрение не дает ничего. Если эта последняя желательна, то она, очевидно, может быть создана не усмотрением судей, а только "усмотрением" закона.
XVI. Обязательства из правонарушений. Проблема ответственности за вред.
Задача гражданского возмещения вреда и попытки законодательного определения гражданского деликта. Правонарушение и нарушение "добрых нравов". Бездействие как правонарушение. Предполагает ли ответственность за вред вину правонарушителя? Принцип вины и принцип причинения; принцип "конкретной справедливости". Возмещение вреда и разложение его
Как было сказано выше, обязательства из правонарушений были вообще исторически древнейшим видом обязательств. Но тогда они преследовали двоякую цель: с одной стороны, возмещение причиненного вреда, а с другой стороны - некоторое имущественное наказание правонарушителя; в том имущественном штрафе, который влекло за собою правонарушение, сплошь и рядом сливались и вознаграждение за вред, и карательный штраф в собственном смысле. Дальнейшая историческая эволюция этих обязательств заключается в том, что постепенно эта вторая, карательная, функция их отпадает (переходя в руки уголовного права), и для гражданского права остается только задача первого рода - организация возмещения причиненного вреда. Такое разрешение диктуется самой природой обеих функций: уголовно-правовое наказание имеет свои особые цели и определяется совершенно иными началами, чем те, которыми может руководиться гражданское право. Там, в области наказания, необходимо считаться со степенью опасности деяния для всей общественной жизни, со степенью "злой воли" преступника; там может быть речь о помиловании его и т. д.; здесь, в области гражданского права, мы имеем дело только с частным вредом, причиненным одним лицом другому, и нашей задачей является принятие мер для возмещения этого вреда, для устранения вредных последствий неправомерного деяния в сфере частных интересов потерпевшего. Конечно, необходимость возместить вред будет всегда субъективно ощущаться правонарушителем как некоторая кара для него, но нельзя это субъективное ощущение смешивать с истинной, объективной задачей гражданско-правового института возмещения вреда.
Примечания:
[296] ["культ героев" –
нем.]
[297] Traité élém. de droit civil. T. II, § 2081.
[298] Некоторые из рецензентов моей книги делали мне упрек в преувеличении. Так
например, А. Э. Нольде
говорит: "В чем сказывается ощущение успокоения общества? Неужели над
трудностями социального вопроса после издания новых гражданских уложений в
Германии и Швейцарии меньше задумываются?" – Конечно, нет, но почему? Только
потому, что для реальных интересов "экономически слабых" наши статьи не дают
ничего и, естественно, голоса этих классов населения они заглушить не могут. Но
едва ли можно отрицать, что для "владеющих" классов эти статьи создают
видимость исполненного социального долга: "эксплуатация" запрещена и
"экономически слабые", насколько этого
требует справедливость, ограждены, – следовательно самый уязвимый в
этическом смысле пункт позиции "владеющих" как будто ликвидирован. Именно на
это ослабление моральной ответственности я и хотел обратить внимание.
[299] ["Обоснование
социологии права" – нем.]