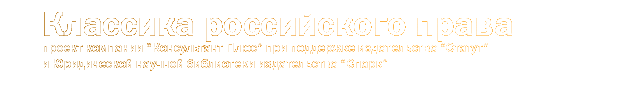Иоффе О.С. Избранные труды по гражданскому праву: Из истории цивилистической мысли. Гражданское правоотношение. Критика теории "хозяйственного права"
Если подходить к тем же концепциям как к определенным юридическим построениям, то следовало бы обратить внимание на достоинства и недостатки каждой из них.
М. М. Агарков, выдвигая теорию динамической правоспособности, должен был признать, что не всякое доступное лишь данному лицу действие знаменует осуществление принадлежащего ему субъективного права. Оно может знаменовать также особое состояние правоспособности этого лица, обусловленное его отношениями с другими лицами. Субъективному праву всегда противостоит чья-либо обязанность. Но тот, например, кто направил кому-либо оферту, ничем не обязан перед ее адресатом, а только связан возможностью получения от него акцепта в установленный срок. Состояние юридической связанности порождает существенно иное правовое явление, нежели субъективное право. Это специфическое правовое явление, занимающее как бы промежуточное положение между правоспособностью и субъективным правом, получило наименование секундарного права.
В противоположность этому С. Н. Братусь, отстаивая теорию статической правоспособности, исключал не только секундарные права, но и какие бы то ни было промежуточные стадии между правоспособностью и субъективными правами. То, что М. М. Агарков именует секундарным правом, для С. Н. Братуся - либо элемент правоспособности, либо обычное субъективное право. А поскольку правоспособность - суммарно выраженная способность к правообладанию, то любые ее проявления не могут быть ничем иным, кроме как субъективными правами.
Этот конечный вывод ошибочен. существует немало действий (таких, как обнаружение находки, заключение договоров, не сопряженное с использованием уже имеющихся правомочий), которые хотя и проявляют правоспособность, но отнюдь не воплощаются в уже возникших субъективных правах. Субъективное право опирается на правоспособность как на свою необходимую общую предпосылку, но непосредственно возникает не из правоспособности, а из предусмотренных законом юридических фактов, к числу которых относятся как события, так и действия, включая такие действия, возможность совершения которых обусловливается уже сложившимися или складывающими конкретными отношениями. Обращая внимание на этот процесс, М. М. Агарков не допускал каких-либо прегрешений против истины.
Позиция М. М. Агаркова становилась уязвимой начиная лишь с того момента, как указанная промежуточная ситуация была возведена им в ранг если и не субъективного права, то по крайней мере секундарного права. Разумеется, акцептовать оферту вправе не любое лицо, а лишь то, которому она адресована. Но происходит это не потому, что у адресата оферты появилось секундарное право. Здесь действуют совершенно иные причины, связанные с тем, что подавляющее большинство правоотношений возникает не из единичных юридических фактов, а из определенной их совокупности. Вследствие этого самое образование субъективного права выливается в более или менее длительный процесс, разобщенный во времени по отдельным стадиям, каждая из которых вызывает свои обособленные, хотя и далеко не завершенные юридические последствия. Но процесс формирования субъективного права есть именно этот процесс и ничего более. Он опирается на правоспособность, отнюдь не сообщая ей качества динамичности, и ведет к появлению субъективного права, отнюдь не предвосхищая его правами секундарными. И если бы указанный процесс не был предан забвению в полемике с М. М. Агарковым, С. Н. Братусь имел бы все основания констатировать, что на одном его полюсе лежит правоспособность как абстрактная способность правообладания, а на другом - субъективное право как одно из конкретных проявлений правоспособности.
И все же правоспособность не только отлична от субъективного права, но и сходна с ним по многим объединяющим их общим признакам, так как быть правоспособным тоже означает <иметь право>, хотя бы последнее и сводилось не более чем к праву выступать в качестве носителя различных конкретных правомочий и обязанностей. Поэтому проблема соотношения субъективных прав с правоспособностью сохранила научную значимость и за пределами полемики между сторонниками динамической и статической теории[336]. Для ее непосредственного анализа динамическая теория существенна как ориентирующая на развивающийся процесс вычленения субъективного права из правоспособности, а статическая теория - как проводящая разграничение названных категорий на основе философских критериев абстрактного и конкретного, возможного и действительного. Но прямого ответа на вопрос об отличии субъективного права от правоспособности ни та, ни другая теория не дает. К тому же его разрешение зависит от сложившихся взглядов не только на понятие правоспособности, но и на сущность самого субъективного права.
Важно, прежде всего, установить, может ли субъективное право существовать вне правоотношения или, наоборот, правоотношения всегда появляются одновременно с тем, как возникают субъективные права.
Подавляющее большинство советских цивилистов не мыслит существование субъективного права вне правоотношения. такая позиция в сочетании со статической теорией правоспособности позволяет утверждать, что там, где норма права закрепляет лишь отношения с государством, правовое регулирование не выходит за рамки правоспособности, а как только устанавливаются правовые отношения между конкретными лицами, у этих лиц возникают также субъективные права и соответствующие им обязанности.
Иное положение складывается в случае, если допустить существование субъективных прав вне правоотношения. Вслед за некоторыми специалистами в области теории права подобную конструкцию к абсолютным гражданским правам применил Д. М. Генкин[337]. Наряду с многосторонней критикой[338] она встретила также определенную поддержку, причем встретила ее не от кого-либо иного, как от С. Н. Братуся - автора теории статической правоспособности[339]. В результате С. Н. Братусь полностью лишил себя возможности провести такое размежевание субъективных прав и правоспособности, которое логически вытекает из разработанной им статической теории. Этой возможности оказались лишенными и все другие авторы, не считающие правоотношение обязательной формой проявления субъективных прав. Действительно, в той мере, в какой субъективное право не порождает правоотношений между управомоченным и конкретными обязанными лицами, оно не выходит за пределы правовых связей своего носителя с государством, которым такое право санкционировано и потому обеспечивается мерами юридической охраны. Но тем самым исчезает всякое различие между субъективным правом и правоспособностью, которая, согласно статической теории, также не зависит от отношений с конкретными лицами и всецело определяется фактом ее государственного признания.
Не менее важно, с другой стороны, выявить, исчерпывается ли содержание субъективного права обеспечиваемой им мерой дозволенного управомоченному поведения или оно предполагает, кроме того, возможность требовать определенного поведения от других, обязанных, лиц.
Многие советские цивилисты включают в содержание субъективного права обе названные возможности. Такая позиция в сочетании со статической теорией правопособности позволяет утверждать, что там, где норма права определяет лишь меру дозволенного государством поведения, правовое регулирование не выходит за рамки правоспособности, а как только устанавливаются границы поведения одного лица, на которое вправе притязать другое, у этих лиц возникают также субъективные права и соответствующие им обязанности.
Иное положение складывается, если сводить субъективное право к одной лишь мере поведения, дозволенного управомоченному. Вследствие такого сведéния разграничить правоспособность и субъективное право не в состоянии даже авторы, которые одновременно выступают против концепции, выводящей абсолютные права за пределы правоотношений[340]. Парадоксален, однако, тот факт, что конструирование субъективного права исключительно по признакам дозволенного поведения заимствуется ими не у кого-либо иного, как у С. Н. Братуся[341] - создателя теории правоспособности, опираясь на которую только и можно провести размежевание правоспособности и субъективных прав. В результате С. Н. Братусь дважды лишил себя такой возможности - как при исключении абсолютных прав из состава правоотношения, так и при отождествлении субъективного права с мерой поведения, дозволенной управомоченному. действительно, мера юридически дозволенного поведения образует содержание правоспособности в такой же степени, как и субъективного права. Именно это и имеют в виду, когда говорят, что быть правоспособным - значит обладать управомоченностью на определенное поведение, быть носителем определенного права. А если в характеристике субъективного права дело ограничивается указанием лишь на меру дозволенного поведения, то тем самым какое бы то ни было различие между субъективным правом и правоспособностью устраняется.
В работе, опубликованной в середине 50-х годов, Н. Г. Александров, подходя к правоспособности с общетеоретических позиций, рассматривал ее <как своеобразное длящееся отношение между лицом и государством, отношение, обусловливающее возможность для лица при наличии фактических условий, предусмотренных юридической нормой, становиться участником правоотношений того или иного вида, то есть обладать теми или иными правомочиями и нести те или иные обязанности>[342]. Приведенное положение в сочетании со статической теорией С. Н. Братуся и дает ключ к решению обсуждаемой проблемы, если при этом субъективное право не выводится за рамки правоотношения, а в его содержании различаются дозволенность определенного поведения самому управомоченному и возможность требовать определенного поведения от обязанных лиц. Тогда становится понятным, что: а) правоспособность - предпосылка правоотношения, а субъективное право - один из необходимых его элементов; б) правоспособность воплощает отношение как носителя с государством, а субъективное право - с обязанным лицом; в) правоспособность определяет меру дозволенного ее обладателю поведения, а субъективное право - также меру поведения обязанных лиц, на которое вправе притязать управомоченный.
Вопрос о соотношении правосубъектности с право(дее)способно-стью, а того и другого с субъективными правами исторически поднимался советской гражданско-правовой наукой в связи с учением либо о гражданском правоотношении, либо о правосубъектности граждан, хотя сформулированные на этой основе общие положения были распространены также на юридических лиц. В свою очередь, и разработка учения о юридических лицах послужила основой для таких выводов, которые, наряду со специальным, нередко приобретали существенное общетеоретическое значение.
§ 2. Правосубъектность социалистических организаций
Сущность правосубъектности социалистических организаций. Точно так же, как правосубъектность граждан, гражданская правосубъектность социалистических организаций, их юридическая личность, становится непосредственным предметом теоретических исследований только в условиях перехода к нэпу и проведения первой кодификации советского гражданского законодательства. Хотя институт юридического лица применительно к социалистическим организациям используется уже в законодательных актах, изданных начиная с 1918 г.[343], своего реального проявления в сколько-нибудь значительных масштабах этот институт не мог получить до тех пор, пока продолжался процесс замены товарно-денежных отношений системой прямого централизованного распределения. Но как только он уступил место противоположному процессу - внедрению товарно-денежных начал в сферу имущественных отношений, включая отношения с участием социалистических организаций, так гражданская правосубъектность последних, закрепленная уже, помимо отдельных нормативных актов, в общих нормах первых советских гражданских кодексов, выдвигается в число наиболее существенных и значительных проблем советской цивилистической теории.
В литературе 20-х годов эта проблема исследуется с разной степенью интенсивности по отношению к государственным юридическим лицам, с одной стороны, и кооперативно-колхозным организациям, с другой.
Что касается кооперативно-колхозных организаций, то, поскольку колхозы к этому времени еще не получили большого распространения, в качестве модели для анализа рассматриваемого вопроса используются почти исключительно низовые ячейки промысловой и, в особенности, потребительской кооперации. А так как потребительская кооперация в определенном объеме существовала и до революции, это иногда порождало иллюзию, будто речь идет о достаточно известном феномене, не изменившем ни своей социальной сущности, ни правового содержания. Выразители подобных представлений обращали внимание преимущественно на чисто догматическую сторону дела, на выявление отдельных юридических признаков, отличающих кооперативы от других предусмотренных Гражданским кодексом объединений лиц, в первую очередь таких, как гражданско-правовые товарищества. При этом нередко гражданско-правовое товарищество рассматривалось как родовое явление, а кооператив как такая разновидность этого явления, которая представляет собой гражданско-правовое товарищество с переменным составом членов и капиталов. Некоторые разногласия среди сторонников этих взглядов существовали лишь в трактовке природы кооперативного устава: одни объявляли его договором, не заключающим в себе ничего специфического по сравнению с любыми вообще договорами товарищества, а другие признавали устав внедоговорным актом, принятие которого кооперативами отличает их от всех иных товариществ. Когда же дело доходило до определения понятия кооперативных юридических лиц, дискуссия ограничивалась лишь вопросом о численности правовых признаков, которые должны быть включены в соответствующее определение.
Для того, чтобы составить сравнительно полное представление о характере определений такого рода, достаточно воспроизвести определение Г. М. Колоножникова, который включил в свою формулу едва ли не все признаки, отмеченные другими авторами. Он писал: <Кооперативное товарищество - это: 1) соединение, 2) под особой фирмой, 3) неопределенного числа, 4) лиц, 5) свободно вступающих и выходящих из него для достижения ими, 6) в качестве самостоятельного юридического лица, организованного 7) на началах равенства и самоуправления, для 8) целей укрепления и воспособления их трудовым хозяйствам, 9) посредством соединения их общих усилий, 10) в области кредита, потребления и производства, а также 11) ведения культурно-просветительной работы>[344].
Приведенное определение, как видно уже из самого его текста, не выходит за пределы сложившихся в дореволюционное время цивилистических представлений о кооперации. Не затрагивая вовсе вопроса о социальной сущности кооперации в условиях диктатуры пролетариата, оно, как и многие другие определения, распространенные в 20-х годах, строится по принципу нахождения признаков сходства и различия между кооперативными организациями и частными объединениями, образование которых допускалось законодательством периода нэпа. Было бы, однако, глубочайшим заблуждением усматривать попытки выявления социалистической сущности советской кооперации в одном лишь факте противопоставления кооперативных организаций капиталистическим предприятиям.
А. Терехов, например, в работе <Советское кооперативное право> (1924 г.) писал: <Кооператив имеет своей целью удовлетворение материальных и культурных нужд своих членов. Этим кооператив отличается от капиталистических товариществ. Последние имеют своей целью извлечение прибыли>[345]. Но дело в том, что совершенно аналогичное противопоставление проводилось и в буржуазной литературе применительно к дореволюционной кооперации. <Кооперация, - писал в 1906 г. М. И. Туган-Барановский, - есть такое хозяйственное предприятие нескольких добровольно соединившихся лиц, которое имеет целью не получение наибольшего барыша на затраченный капитал, но доставление его сочленам, благодаря общему ведению хозяйства, каких-либо выгод иного рода>[346].
Из этого следует, что социальная сущность советской кооперации для своего выявления предполагает не только размежевание предприятий кооперативных и капиталистических, но и анализ социалистической природы самих кооперативных предприятий в условиях диктатуры пролетариата. Однако такой анализ в одних случаях подменялся заявлениями, будто любая кооперация, а не только утверждающаяся после победы пролетарской революции, имеет своей целью социалистическое переустройство общества[347]. В других же случаях необходимость подобного анализа отвергалась на том основании, что участие кооперации в социалистическом строительстве <является моментом социально-политическим, а не правовым>[348].
Классово обезличенный, догматический подход к исследованию правовой природы советской кооперации встретил решительную критику со стороны П. И. Стучки, вскрывшего также всю ошибочность стремлений объявить ее формой частнохозяйственной деятельности, покоящейся на договорной основе, особой разновидностью обычного гражданско-пра-вового соглашения о товариществе. Он подчеркивал, что советские кооперативы - это <организации трудящихся..., организации массовые, возникающие по добровольному соглашению>, что <при социалистическом производстве потребительские объединения создают непосредственную смычку между социалистическим производством... и потреблением>, что <при широкой массе крестьянства и мелкой буржуазии трудовое и промысловое кооперирование крестьянства является, с одной стороны, <переходом от мелкого производства к более крупному> (Ленин), с другой стороны, средством введения его в централизованную систему в интересах вовлечения в единый план>[349]. Но вместе с тем и сам П. И. Стучка, переходя к характеристике положения кооперации по советскому праву, утверждал, что в той мере, в какой кооператив выступает в области гражданского права, т. е. действует в качестве юридического лица, он носит частный характер, обнаруживая социалистические тенденции, лишь поскольку его деятельность относится к сфере регулирования иных отраслей советского права[350]. И только в связи с широким развертыванием колхозного строительства в конце 20-х - начале 30-х годов, когда взгляды на кооперацию как на частное предприятие вступили в особенно вопиющее противоречие с действительностью, они полностью исчезают со страниц советской цивилистической литературы, уступив место другим, отражавшим подлинное положение вещей, теоретическим построениям.
Подобно исследованию кооперативных организаций догматический подход давал себя знать и в анализе гражданской правосубъектности государственных трестов, а также других государственных организаций, наделенных правами юридического лица по законодательству 20-х годов. Оценка их правовой природы зачастую не шла дальше простой констатации того факта, что они выступают в качестве <обособленных центров> сосредоточения гражданских прав и обязанностей[351]. Иногда же под влиянием сменовеховских концепций государственные тресты, в той мере, в какой они способны к участию в гражданском обороте, объявлялись своеобразными частными предприятиями, построенными по образцу предприятий капиталистических[352] или по крайней мере с использованием опыта капиталистического предпринимательства, хотя и с устранением многих его пороков[353].
Примечания:
[336] Ее изучению посвящались
специальные исследования советских цивилистов. См., напри-мер: Юркевич Н. Г.
О соотношении правоспособности и субъективного права. - Тезисы докладов 21 научной
сессии Белорусск. ун-та. Минск, 1956, с. 39.
[337] См.: Генкин Д. М. Право
собственности как абсолютное субъективное прав. - Советское государство и право,
1958, № 8, с. 92 и сл.; он же. Право собственности в СССР. М., 1961, с. 32 -
46.
[338] См., например: Флейшиц
Е. А. <Абсолютная> природа права собственности. - В кн.: Проблемы гражданского
права. Л., 1962, с. 214 и сл.
[339] См.: Братусь С. Н. Предмет
и система советского гражданского права. М., 1963, с. 189.
[340] См., например: Толстой
Ю. К. К теории правоотношения. Л., 1959, с. 35 и сл., 77 и сл.
[341] См.: Братусь С. Н. Субъекты
гражданского права, с. 8 - 13.
[342] Александров Н. Г. Законность
и правоотношения в советском обществе. М., 1955, с. 116.
[343] См. подробнее: Венедиктов
А. В. Организация государственной промышленности в СССР. Т. I. Л., 1957, с.
417 и сл.
[344] Колоножников Г. М. Понятие
и юридическая природа кооперативных товари-ществ. - Известия Донского ун-та,
1921, кн. 1. с. 99.
[345] Терехов А. Советское кооперативное
право. Харьков, 1924, с. 15.
[346] Туган-Барановский М. И.
Экономическая природа кооперативов и их классификация. - Курсы кооперации, т.
I. М., 1906, с. 10.
[347] См., например: Терехов
А. Советское кооперативное право, с. 16.
[348] Поволоцкий Л. И. Основные
начала кооперативного права СССР. Л., 1927, с. 133.
[349] Стучка П. И. Курс советского
гражданского права. Т. II, с. 133.
[350] Стучка П. И. Курс советского
гражданского права. Т. II, с. 110.
[351] См., например: Карасс
А. В. Советское промышленное право .М., 1925, с. 98.
[352] См., например: Шретер
В. Н. Проект общесоюзного закона о трестах. - Советское право, 1926, № 4, с.
108 - 121. Еще более прямолинейно аналогичные взгляды выражал Н. А. Арефьев
(в кн.: Вопросы промышленного права. М., 1925, с. 115 - 116), заяв-лявший, что
государственные хозяйства вынуждены строиться на таких же индивидуали-стических
началах, какие господствуют на Западе, а потому трест <есть сколок акционер-ного
общества>, в отношении которого права общего собрания акционеров осуществляет
ВСНХ.
[353] См., например: Мартынов
Б. С. Государственные тресты. М., 1924, с. 7.